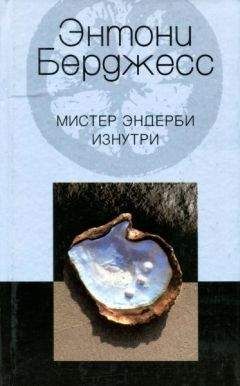— Гарибальди, — изрек Эндерби. — Да здравствует итальянская Африка!
Когда явилась в конце концов Веста, славный пивной двор сразу дезинфицировался, обернувшись фоном для демонстрации мод из «Вога». Вид у нее был усталый, но она полностью сохраняла спокойствие и элегантную трепетность, отчего даже грубейшие пьяницы подумывали снять кепки. Некоторые, припомнив, что они итальянцы, услужливо проговорили:
— Molto bella[96], — и сделали в воздухе жесты, будто кур щипали.
Она обратилась к Эндерби без преамбулы:
— Так я и знала, найду вас в каком-нибудь таком местечке. Сыта по горло. Меня тошнит до смерти. Видно, вы изо всех сил стараетесь превратить наш медовый месяц в фарс, а меня выставить дурой.
— Садитесь, — предложил Эндерби. — Садитесь, пожалуйста. Выпейте вот этого замечательного фраскати. — Кивком указал на сухую и довольно чистую часть скамьи, где сидел. Литанист догадался, что она inglese, соответственно перенес на нее страсть к футболу и некстати сказал:
— Бардак, — имея в виду «Спартак».
Веста садиться не стала.
— Нет, — сказала она. — Вы со мной пойдете автобус искать. То, что я хочу сказать, обождет до возвращения в Рим. Не желаю рисковать публичным скандалом.
— Мир, — передразнил ее Эндерби. — Мир и порядок. Вы надо мной сыграли очень злую шутку, и я ее в спешке не позабыл. Поистине гадкая шутка.
— Пошли. Некоторые автобусы уже уехали. Оставьте вино и пойдем.
Эндерби увидел, что остается еще поллитра золотой драгоценной мочи. Наполнил стакан и сказал:
— Salute. — Проглотил возбужденные крики «bravo», полные энтузиазма, подобно услышанным на священном холме, хоть тогда не в свой адрес. — Хорошо, — сказал он, помахав на прощанье.
— Мы опаздываем, — предупредила Веста. — Опаздываем на автобус. Не опоздали бы, если б я не пошла вас искать.
— Шутка злая была, — повторил Эндерби. — Почему вы мне не сказали, что нас везут в Ватикан?
— Ох, не будьте таким идиотом. Это не Ватикан, а летняя резиденция. Где же наш автобус, скажите на милость?
Число автобусов было ошеломляющим, все одинаковые. В них уютно и самодовольно гнездились пилигримы; некоторые с нетерпеливым ревом уносились прочь. Автобусы стояли повсюду — у обочины, на холмистых улочках, — точно большие жуки в щели. Веста с Эндерби принялись быстро, но внимательно, будто покупать собирались, осматривать автобусы, пассажиров и прочее. Ничего знакомого вроде бы не обнаружили, и Веста начала издавать огорченные звуки. Прислушавшемуся сквозь плотную завесу вина Эндерби показалось, что он слушает общепринятый английский, с которого грубо ободрана облицовка и инкрустация, в результате чего звучит лалланс[97], пряный, как маринованный домашний лук, с горловыми и гортанными перебивками. Она в самом деле встревожилась. Эндерби сказал:
— Черт с ним, бросят нас — особого вреда не будет. Тут должны быть автобусы, поезда, такси или что еще там. Не в джунглях же мы заблудились или где еще там.
— Вы обидели гида, — упрекнула Веста. — А еще богохульничали. Знаете, эти люди к религии очень серьезно относятся.
— Чепуха, — сказал Эндерби. Небо над их ищущими головами украдкой заволоклось тучами. Атмосфера стала зеленоватой, словно раньше или позже намеревалась стошнить. За озером снова мягко забарабанила тревога, как бы кончиками пальцев в тимпан.
— Дождь собирается, — взвыла Веста. — Ох, захватит нас. Вымокнем. — Однако непроницаемый от вина Эндерби велел не волноваться: сядут они в тот самый проклятый автобус.
Но они в него не сели. Как только подошли, автобус игриво тронулся, мотором прорычав Эндерби презрительный эксплетив. Сверху вниз смотрели лица, пилигримы ухмылялись, махнуло несколько рук. Веста с Эндерби смахивали на хозяев, провожающих после размашистой вечеринки кучу довольно неблагодарных гостей.
— Он это нарочно сделал, — крикнула Веста. — Отомстил. Ох, сколько от вас неприятностей. — Поспешили к другому автобусу, и тот, как играющий в догонялки котенок, мигом пришел в движение. Осталось уже совсем мало, хотя Эндерби испытывал уверенность, что в одном из немногих оставшихся маячит римская физиономия, неблагородная физиономия римского гида, и римские пальцы делают сложные злобные триумфальные жесты.
Тимпанщики за озером, схватив чуткие палочки, пророкотали несколько тактов, пока автобусы, как бы спасаясь от плохой погоды, с песней мчались к городу. Озеро претерпевало сложные металлургические преобразования, небо, окутываясь жарким и устрашающим светом, начинало потеть, потом плакать.
— Ох, Иисусе, — крикнула Веста, — начинается. — И действительно, началось, когда до другого укрытия, кроме деревьев, оставалось полмили: небо треснуло бочкой дождевой воды, воздух стал опрокинутым вертикально стаканом, откуда лилась бадья за бадьей. Они слепо мчались к гостиничке на берегу озера, Веста топала ловкими шпильками, Эндерби крепко держал ее за локоть, как школьный циркуль; оба уже слишком вымокли, чтобы так торопиться в убежище. Голова Эндерби ощетинилась перхотью от потопа, желтовато-коричневый летний костюм промок. Но она, бедная девочка, совсем погибла: шляпа комично болтается, крысиные хвосты волос, тушь течет, лицо плачущей старой карги словно оплакивало дезинтеграцию шика.
— Сюда, — выдохнул Эндерби, втащив ее прямо в зал, где пахло простором и свежей краской, с пустыми столами и стульями, с прилизанным официантом, который любовался свободным потоком дождя. — Думаю, — пыхтел Эндерби, — надо взять номер, если они у них есть. Первым делом просохнуть. Может, у них… — Официант выкрикнул чье-то имя, потом повернул молодое пустое лицо к двум промокшим. — Una camera, — сказал Эндерби. — Si é possible[98]. — Парень вновь крикнул мальчишеским несломавшимся криком под барабанную дробь воды. Пришла женщина, сливочно жирная, в цветастом платье, сочувственно цыкнула, бросила быстрый взгляд на безымянный палец Весты, сообщила, что имеется camera с одной letto[99]. Несмотря на грандиозную улыбку, Веста смахивала на сопливую бродяжку. — Grazie, — сказал Эндерби. На запоздалом небе мигом треснула молния, тимпанщики отсчитали полтакта и вступили с прекрасным раскатом, с грохочущими аккордами космического Берлиоза. Дрожавшая Веста перекрестилась.
— Зачем, — спросил Эндерби, — вы это сделали?
— Ох, Боже, — призналась она, — я боюсь. Грома не выношу. — Желудок у Эндерби перевернулся при этих словах.
Наверху в спальне они предстали друг перед другом голыми. Эндерби почему-то не ожидал, что они предстанут друг перед другом голыми, когда скинут мокрую одежду, кучей выбросив ее за дверь. Предполагалось, что они предстанут голыми друг перед другом как-нибудь иначе: сознательно, по желанию или из чувства долга. Он старался переварить столько других вещей, что никак не мог предвидеть эту преждевременную картину (а там, на холме, очень чисто вписалось в картину великое послевременное свидетельство), ибо комната в высшей степени походила на детскую Эндерби: изображения святого Иоанна Крестителя, Святого Сердца, БДМ[100], мелодраматической Голгофы; запах нечистого постельного белья, пыли, обуви, застоявшейся святой воды; невыбитый волокнистый ковер, узкая койка. Воспроизведение здесь, в Италии, под дождем, основных декораций стольких подростковых монодрам не удручало его: эта спальня всегда оставалась мятежным анклавом в мачехиной стране. С полной четкостью вспомнились строки неопубликованного стиха:
…Бывало, ты, превратно понятый родней,
В пятнадцать, летом, вечером в постели
Верил в существованье древних городов, где побывал,
Отправившись с какой-нибудь заброшенной платформы,
С билетом, купленным при заболтавшихся часах.
О, прошлое кому удастся расчленить?
Ложится мальчик в дружелюбную постель
На мать непознанную, входит в лоно
Истории, овладевает ею, наконец. Наверно, слезы
Все так же жаждут той вонючей и нестираной подушки,
Замаранной всей грязью прошлого постели,
Со вшами, дрянью, глупостью и бредом Золотого Века,
Но любящего, материнского, в конце концов, Эдема…
Он несколько раз кивнул, стоя голым в дождливой Италии, думая, что всегда хотел иметь мать, а не мачеху, сам сотворил эту мать в своей спальне, создал ее из прошлого, из истории, мифа, искусства поэзии. Когда она возникла, то стала стройнее, моложе, больше похожая на любовницу; она стала Музой.
Молния вновь сотрясла твердь, потом, тщательно отсчитав, хохотавшие барабанщики адски грянули в звучные мембраны. Веста коротко взвизгнула, обхватила тело Эндерби и как бы попыталась в него втиснуться, будто он был ободранным кроликом большого размера, а она — горстью трясущейся фаршировки.