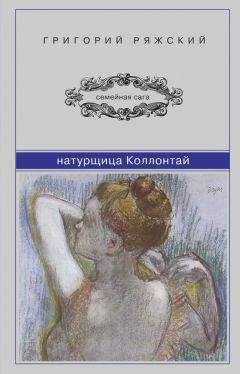К беде.
Теперь о ней.
Уехали они, Шуринька, все пять. Улетели в город Вену, чтобы потом оказаться где получится, но через Израиль. Так теперь делают все, кто евреи или несогласные жить дальше. Он мне рассказал, Паша, встречались напоследок с ним. Приехал сказать «прощай» и привёз Мишеньку.
У меня сидели, на Метростроевке.
Миша мой вырос не узнать, в школе, говорят, хорошо идёт по всем начальным предметам. Я ведь его после тех событий не видала, по уговору с ними. Меня — как и не узнал, жался к Паше. Смущался, вежливый, называл тётя Шура. Ну и я не кинулась, чтобы не вернуть былое: что сделано, того нет. Тем более что выезд им дали по разрешению органов, на законном основании как врагам народа.
Посидели: о том о сём. Получилось грустно и немного памятно.
Говорю:
— Чего надумал приехать? Разобрало под финал?
Он:
— Я просто благодарен тебе, Шуранька. Спасибо за всё, что ты для нас сделала. Не знаю, сумею ли когда-нибудь ещё сказать тебе эти слова, поэтому хочу, чтобы знала сейчас.
И глаза в пол. А Миша молчит.
Смотрю на него и так и не догадываюсь, кто его отец, — честно, бабушка, понятия не имею. Но чувствую, что хочу, чтобы Паша был, не Леонтий Петрович мой. Так мне справедливей, если отмотать всё как было между нами всеми.
А ещё такое было, которое, как умер мой муж, так и началось. Тыща народу, сын приехал из Швеции, познакомились с ним, наконец, увиделись. И с женой его тоже. Он человек нехороший оказался, недобрый. Стал интересоваться, кому и что достаётся. И получается, что был он в квартире нашей не прописан, у них своя имелась. И теперь эта отходит ко мне, по закону, по прописке в ней.
Дальше разбираться стали: уже после панихиды, после слов прощания, похорон на Ваганьково, поминочных мероприятий и зачитки завещательного распоряжения.
Сообщает, картины заберу, все, в виде памяти о маме, и всю антикварную мебель и обстановку как воспоминание об отце.
Говорю:
— В завещании чёрным по белому, что обстановка при мне и квартире.
Он:
— Картины не обстановка, а предмет культурного наследия, их мама подбирала и вкладывалась лично общими средствами семьи. Как и персональные вещи, и мебель моего отца, которые он также лично ввозил сюда из мест длительного пребывания. И его частный архив.
А дорогостоящими оказались картины-то эти, ужасно просто, кто бы знал про них такое заранее. Сама-то я до этого не понимала, люди подсказали, шепнули, а Паша после подтвердил, как пришёл прощаться на выезд. Пальцем пересчитал: это Коровин, это Бенуа, это Юон Константин Фёдорович. А это псевдёж, фуфел, имитация, фальсификат, пошлятина, чучело красоты и сладкие слюни. А мебель, сказал, не антик, а под старую, гнутая Румыния с искусственной позолотой.
Короче, много всего стоящего.
Ну, чтобы не заострять, скажу, что с сыном его мы по положению о вступлении в наследство и вступили, каждый в свою часть. Он — в сберкнижные вклады, в личное, в книги и бумаги, плюс право доживать на госдаче пять лет после кончины, как родня, а я в остальное, включая распорядительство над Мишенькиной частью отложений и средств, хотя отчеством Миша так и остался Павлович, без никаких.
В общем, посидел Паша в тот день, и пошли они, не задержались долго. И то, сказал, пришли, а Фира не в курсе, не то бы осталась недовольна. Она тебя, сказал, с первого дня невзлюбила, ещё когда со мной не сошлась. Я-то знаю, что ты другая, что внутри тебя живёт добрый, глуповатый и немного трогательный в наивности своей человек. Чувствительный, но недалёкий, как идеальной формы растение перекати-поле, совершенное по замыслу, но управляемое случайными ветрами. А Фире вдумываться было незачем, она видела только то, что видела, и делала выводы. Она чрезвычайно здравомыслящая женщина и пронзительного к тому же ума, так что спасибо тебе за неё дополнительно к главной моей благодарности.
Говорю:
— А чем же я ей так насолила, что она меня ненавидела все годы?
Он:
— Дело не в ненависти, Шуранька, а в плебействе — не в твоём конкретно, а вообще, если брать шире. Она просто здесь изначально чужая, по всему: по голове своей, по способу мыслить, по семейной исторической памяти, по системе внутренних предпочтений. И я не знаю, если честно, кто кого втянул в правозащитную деятельность, я её или даже больше она меня.
Я:
— А чего ж валите тогда? Ну и боролись бы себе, раз вы такие упёртые с Фирой твоей.
Он:
— Это всё только ради детей: заберут нас, что тогда Мишеньку ждёт, пойми меня правильно. А он у меня один, другого уже не будет.
Я:
— Как это что? Со мной будет, я ж мать, в конце концов.
Он:
— Вот мы и подумали, что лучше эмиграция, чем… чем всё остальное.
Так и расстались, бабушка, насовсем.
Разве что снова притянул к себе, несильно, и в лобик поцелуй нанёс, слабый, бесчувственный.
А про благодарность — это отдельно.
Умер Леонтий когда, дали срок мне на всё про всё опомниться, а после снова приглашают на беседу, туда же, ну ты понимаешь, о чём я. Тот же Чапайкин-генерал.
Говорит:
— Ну так что, Александра Михайловна, поговорили с Павлом Андреевичем вашим про ребёнка?
Я:
— Не поговорила и говорить не стану. Так я решила.
Он:
— Это ещё почему?
Я:
— Муж мой умер, вы его своим подлым вмешательством до быстрого миокарда сердечной мышцы довели. И кому теперь крах будет, если откажусь, трупу его?
Он:
— Мы вам, конечно, сочувствуем, уважаемая, но в таком случае, если Павел Андреевич получит разрешение на выезд, мы не станем воспрепятствовать, чтобы он забрал и вашего сына с собой. У вас ведь от покойного мужа не осталось больше общих детей.
Я:
— Пусть забирает. Это его кровный сын, а не Леонтий Петровича, вам в этом всё равно самим не разобраться, как бы и ни хотелось карту эту дьявольскую разыграть.
Так и сказала, в лицо, представляешь? Паша так когда-то серьёзно о дьяволе пошутил.
А что такого, подумала, — с работы снимут? Разве что только сами позы пойдут принимать вместо меня да оголяться? А уволят, по мастерским пойду, они только счастливы будут, бородатые, что напрямую лишь им одним теперь позировать стану, а не на зарплату.
Спросишь, пенсия обвалится, стажа не хватит?
Так Юона Константина Фёдоровича в хорошие руки сбуду, Паша сказал, при твоих сдержанных запросах лет на пять безбедно жить хватит, без оголения и без ничего ещё.
Так-то!
И больше они меня не тревожили, Шуринька, ни разу покамест не вызвали. А чего им теперь вызывать, раз сами обгадились, прости господи!
Паша позвонил недавно, всего один раз, что после Австрии и Италии устроились на жизнь в Канаде, в городе Торонто. Чтобы знала я, где сын мой теперь возмужает и станет гражданином.
И дал отбой.
А я с недавних пор научилась спать с открытыми глазами. Сплю и бодрствую одновременно. Вижу, как Мишенька бродит по канадским дорогам, по девственным лесам, по тамошним холодным снегам, а сам румяный, улыбчивый, бодрый, бесстрашный.
В тебя и в меня, бабушка, в нас с тобой.
А Есфирь, злющая, не хуже той Варвары Айболитовой, на машинке письма строчит двумя ладошками, обвиняет меня, что обманом замуж устроилась за состоятельного и слабосильного старика. А Паша её отговаривает, успокаивает, к совести призывает и к миропорядку, в келью утягивает канадскую, но не шкафом отгороженную, а из шалаша и кленовых листьев, природную, натуральную, на чистом воздухе возведённую, экологически безопасную.
И ноги у него снова две, вторая вытянулась обратно, за границей.
И кисточка приросла назад ручная, левая.
И снова он гений, и снова лепит и рисует, а горбоносая жестокосердная Есфирь для него живая натура взамен меня.
Говорит:
— Повернись-ка, Фиранька моя, этим боком, а теперь тем, и снова этим, и стань в три четверти, и замри, и глаза в пол опусти, а руки свободно, плетьми, расслабь и позабудь, что они вообще есть, — так органичней, словно забытая вещь, отделённая от тела. Если выбрать замысловатую позу, то мышцы станут неметь, каменеть и нальются чугуном, но твои мышцы прекрасны даже в чугунном исполнении, они совершенны и эластичны, им не грозит окаменелость и дрожание линий рисунка, и потому можешь быть просто самой собой, и это и будет искусство, это и станет гармония, хорошая ты моя, красавица, пронзительно умная и образованная, как родная речь.
Она:
— Да, всё так, мой ненаглядный, и пусть не думает она, что грудки её вечно будут колышками, а не обвиснут грузинскими лавашами, что бёдрышки ей старостью не разнесёт в неприличную ширь, что щиколотки её не обретут в скором времени отвратительную недопустимую округлость, что запястье, каким похваляется так, не выпучится жирными буграми поверх ремешека от часиков, оставляя некрасивые перетяжки, что ляжки её распухнут и насмерть затянут просвет между собой, что кожа её усохнет и покроется дермантиновой коростой от шеи и до голеней, что…