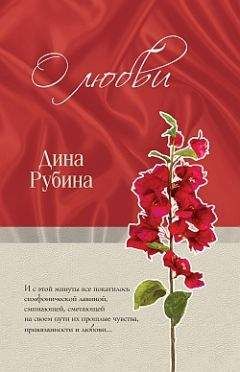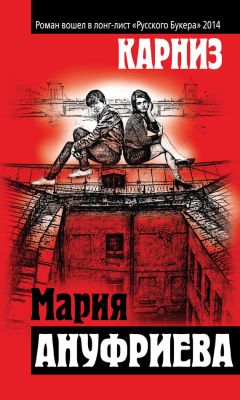– Нопочему – в Китай? – спросила я. – Не в Берлин, не в Париж, не в Прагу...
– Бог мой! – воскликнул он, откинувшись на спинку стула. – И в Берлин, и в Париж, и – в Китай!.. Наша семья, например, жила во Владивостоке. У отца были торговые связи с Манчжурией... Так что... Впрочем, вот... – он подвинул ко мне стопку выцветших брошюр, – несколько номеров нашего «Бюллетеня». Вы можете взять их домой, изучить, и тогда многое для вас перестанет быть тайной за семью печатями...
Изучить! Кажется, он всерьез полагал, что мне нечем занять долгие зимние вечера в вятском имении дяди... Я подвинула к себе бледно отпечатанные газетки, даже на вид убогие и какие-то... старческие.
* * *
Нет, говорю я вам, надо было очень сдерживаться, чтобы не заржать, листая этот их «Бюллетень». На первой странице красовалась рубрика «Новости со всех концов земного шара». Знаете, что в этих новостях, к примеру, было? «Фаня Фиш в четверг почувствовала себя плохо, и ее госпитализировали и оперировали. Лу преданно ухаживал за ней. Милый, трогательный Лу! Пожелаем же нашей Фане скорейшего выздоровления на радость всем нам!»
– Кто такая Фаня Фиш? – спросила я.
– Это наша главная жертвовательница, – ответил он благоговейно, как ответил бы настоятель буддийского монастыря на вопрос идиота-туриста: что это там за огромная многорукая статуя.
– Но... если я не ошибаюсь, вы хотите коренным образом переделать газету, сделать ее привлекательной и интересной не только для членов вашей общины? – я была сияюще предупредительна.
– Да-да, конечно, но не за счет наших, так сказать, столпов существования, – твердо проговорил он. – Их радости и печали, соболезнования близким, когда они уходят в лучший мир, последние новости их уникальных биографий должны украшать первую страницу издания!
– Понятно, – сказала я – У престарелой Фани Фиш есть богатые наследники, которые не должны забывать о славном прошлом отцов.
– Вы несколько брутальны, дитя мое, – грустно заметил он. – Что, впрочем, сообщает нашей беседе определенную ясность.
Он мне страшно нравился, милый старикан – аккуратным помешиванием ложечкой в стакане, скупыми деликатными движениями, и этим внятным проговариванием слов, таких ладных, ровненьких, и чуть заплесневелых. Старческие чистые руки с плоскими, будто сточенными временем большими пальцами...
Нет, вблизи он не был похож на немецкого еврея. Те – суховаты, чужеваты, навеки остранены от местных уроженцев тяжелой виной – своим родным языком... Яков Моисеевич, скорее, похож был на дореволюционного русского интеллигента.
Ветер нежно раскачивал ветки молодой оливы, растущей прямо посреди террасы, недалеко от нашего столика.
По каменным плитам металось солнце, пойманное в вязкий сачок теней.
* * *
Я полистала еще несколько номеров «Бюллетеня» – желтые страницы воспоминаний о каких-то харбинских еврейских гимназиях, о спортивных обществах, о благотворительных вечерах в пользу неимущих учеников реального училища в Шанхае...
– Яков Моисеевич, – сказала я решительно, – полагаю, за вшивых три тысячи шкалей в месяц мы перестроим вашу унылую развалюху в царские чертоги ослепительной высоты.
– Мне рекомендовали вас как человека дельного и надежного, – проговорил он сдержанно, как бы подводя черту под этой частью нашей беседы.
Потом подозвал официантку и заказал еще сока, чем покорил меня совершенно.
– А в каком году вы бежали в Харбин? – спросила я, чтобы поддержать разговор.
– В 22-м, когда Владивосток заняли бандиты...
– Красная армия?
– Ну да, эти бандиты...
Я не стала говорить Якову Моисеевичу, что мой дед был одним из тех, кого он величал столь невежливо...
– Отец находился тогда в Харбине по делам. А семья – на даче, на 16-й версте. Когда стало известно, что красные в городе, мать дала отцу телеграмму: «Оставайся на месте, плохая погода, можешь простудиться». А сама стала быстро собирать вещички. Мне был годик, сестре – пять. Няня у нас была, деревенская русская баба, Мария Спиридоновна, да... Прижала меня к себе – я у нее на руках сидел, в батистовой распашоночке, и говорит матери: – «Не оставляй ты меня, старуху, здесь. Куда вы, туда и я. С вами жила, с вами умереть хочу...» Так, между прочим, оно и получилось. Няня умерла у нас в Харбине, в тридцать третьем году, глубокой старухой...
– И что же мать тогда, с двумя детьми, с нянькой?..
– Ну, примчались с дачи – мы жили во Владивостоке на Светланской улице, – а в дом-то нас уже не пустили. Даже фотографии вынести не дали. Ну, и сейф там, конечно же, деньги, акции... Неразбериха страшная вокруг стояла... слава Богу, сами спаслись. Когда добрались к отцу и он узнал, что все потеряно, он сказал матери: «Не бойся! Начинаем все сначала»... А мне годик исполнился. И больше я в России никогда не бывал. Никогда.
– У вас прекрасный русский. Поразительно...
– Я же говорю вам – няня, няня. Старая русская женщина... В детстве любимым присловьем моим было «Батюшки-светы!»... Откуда бы этому взяться у еврейского ребенка?
– Ну да, Арина Родионовна... Так вы из богатеньких... – сказала я.
– Милая, мой отец занимался коммерцией! Нашей семье принадлежали богатейшие угольные копи, ну и разные там предприятия: мыловаренный завод, табачная фабрика, узкоколейная ветка железной дороги «Тавричанка» – она шла от копей до порта... – Яков Моисеевич покрутил ложечкой в чае, примял нежный темно-зеленый листочек свежей мяты в стакане и добавил меланхолично. – Ну, и пароход, разумеется...
– Досадно! – сказала я абсолютно искренне.
– Простите? – он поднял голову. – Да, мой отец был известный филантроп. Известный человек. Если собирали денег для бесприданницы – первым делом шли к нему... Много жертвовал на общество... Для этого организовывались благотворительные балы, знаете ли... К отцу подходили за пожертвованием, а он спрашивал – сколько дал Рутштейн? Рутштейн тоже был известный богач, но не так широк на пожертвования, как отец... Так вот, он спрашивает – сколько дал Рутштейн – я даю вдвое противу него!.. Да, его все знали... Все обращались за помощью. Однажды вечером явилась молодая бледная дама, в собольей шубе. Стала просить денег – мол, в Петербург отцу послать, там голод, есть совсем нечего. Я, говорит, верну обязательно... вот, шубу в залог оставлю! А отец ей: – «Мадам, вы меня не обижайте. Здесь не ломбард...» Денег, конечно, дал... Отец ведь дважды с нуля свои капиталы поднимал. Он и во Владивосток попал после Сибири, нищим...
– Еврей в Сибири? Это забавно. Что он там делал?
– Жил на поселении. Его сослали за сионистскую деятельность. Так и везли целую группу сосланных сионистов... Какая-то старушка на полустанке подошла к вагону, посмотрела, перекрестилась, спрашивает: «И куда ж вас, жидов православненьких-то гонят?»
* * *
Старые покосившиеся сосны вокруг террасы, со свисающими лохмотьями спутанных длинных игл похожи были уже не на хвойные деревья, а на гигантские плакучие ивы. Оранжевая короста их бугристых стволов излучала мягкий свет, отчего сам воздух парка казался прозрачно-охристым. На густом плюще, облепившем неровную кладку каменного забора, на крутом боку рыжей глиняной амфоры у подножия ступеней, ведущих на террасу, лежали пятна полуденного солнца. Испарения влажной, после вчерашнего дождя, почвы смешивались с кондитерскими запахами из кухни: цукаты, кардамон, тягучая сладость ванильной пудры... А наверху, по синему фарфоровому озеру в берегах сосновых крон, несся лоскут легчайшего облака – батистовая распашонка, упущенная по течению нерадивой прачкой.
– Очень старый дом... – вдруг проговорил Яков Моисеевич, очевидно, проследив за моим взглядом... – Не такой, конечно, старый, как в Европе, но... середина прошлого века. Его, знаете, построил один богатый араб, Ага Рашид, специально, чтобы сдать внаем, или продать... Вы, конечно, бывали внутри?.. После смерти Анны все переделали... При них как было: заходишь – направо библиотека, дальше – большая комната, где доктор Тихо принимал больных. Налево – кухня... А наверху – гостиная, столовая, спальни... Стряпню из кухни наверх доставляли в лифте... Но сначала домом владел некий Шапиро, еврей из Каменец-Подольска – известный богач, ювелир, антиквар, владелец нескольких лавок... Женат был на христианке, да и сам крестился...
– Выкрест – в Иерусалиме? В прошлом веке? Что-то не верится...
– Да-да, выкрест, богач, антиквар... В 1883 году взял и застрелился. Так-то...
– На какой почве?
– Да Бог его знает, дело темное... Одни говорили – разорился, другие, что прочел ненароком какое-то письмо жены, не ему адресованное...
– С письмами жен следует соблюдать сугубую осторожность... – проговорила я, подыгрывая его манере повествования.
Он грустно кивнул:
– Застрелился, бедняга... Будто место освободил. Ведь в том же году, и чуть ли не в этот же день, в моравском городишке Восковиц родился мальчик, Авраам Тихо, которому суждено было купить этот дом и прожить в нем с Анной счастливо сорок лет...