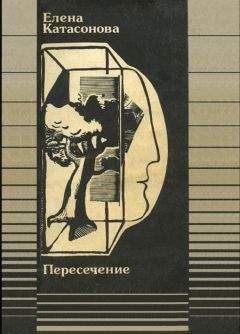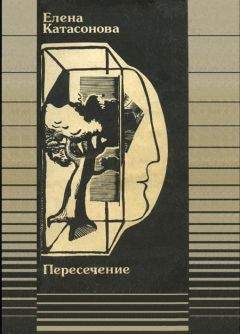Наконец-то Павел законно мог помолчать. Он спит, спит! Имеет он право спать в самолете? Особенно когда в самолете нельзя курить.
— В связи с кратковременностью полета просим вас воздержаться от курения, — сказал металлический голос, и Павел так был ему благодарен! Значит, можно не подносить супруге огня, не видеть ее прищуренных от дыма глаз, ни о чем с ней не беседовать, можно дать себе передышку. Хорошо!
И вот он сидит и думает о Юле. Он всегда теперь о ней думает, с ней говорит, с ней на все смотрит. Только что вместе с ней он рассматривал случайных попутчиков — посмеивался над суетливой дамой в огромных роговых очках, жалел хмурого мужчину с пустым рукавом пиджака, заправленным в глубокий карман, радовался белокурой девчушке с большущим голубым бантом в льняных волосах. А теперь вот закрыл глаза и разговаривает с Юлей об Аленке и Саше. В эпоху до Юли детей он просто не видел, не замечал. Юлька сообщила ему, что дети — удивительный, интересный и умный народ, и он стал их видеть. Павел вспомнил тогдашний их разговор.
Они лежали в лесу — он на спине, раскинув руки и покусывая травинку, Юлька — на его руке, в синей широкой юбке, синем с красным якорем лифчике. Лифчик еще не просох после купания — они ездили на речку чуть ли не каждый день, — и Юлька сушила его, а заодно загорала.
— Так уж и умный? — улыбнулся Павел.
— Конечно! — тряхнула головой Юлька, привстав, наклонилась над Павлом и поцеловала его прикрытые от солнца глаза. — То есть я хочу сказать, что они такие же, как мы, взрослые. Среди них есть, конечно, и глупые, есть злые, завистливые, но вообще-то они не глупее нас, просто они меньше знают…
И Юлька стала рассказывать, как устраивает для дочки елки и дни рождения, как готовит «сладкий стол» и придумывает подарки. На Новый год у них во дворе тоже ставят елку, вешают большие лампочки, и первого января, когда взрослые отсыпаются, ребятня высыпает во двор и играет под елкой в снежки. А потом все заваливаются к Аленке, и Юля поит ребят чаем, на ходу сочиняет истории про Деда Мороза и уверяет Аленкиных друзей, что все эти истории — правда.
Юля говорила, а он слушал, не открывая глаз, и чувствовал ее пальцы на своем лице. Как все это, оказывается, интересно! Почему же у них в доме никогда не было таких веселых сборищ, а дни рождения Саши превращались в обычные застолья с некоторыми — вариациями? Он примерял все к себе, к Саше. А есть ли, были ли у его Саши друзья?.. Ну конечно, были и есть. Например, Сережа, тот, у которого Саша гостил на даче. Отец Сережи — известный историк, дача двухэтажная, строится баня… Тьфу ты, дьявол, при чем здесь баня?..
Павел рывком сел, обнял Юлю. Скоро ехать назад, в город, а он ее еще не наслушался, не насмотрелся еще на нее, не надышался запахом ее волос. Он встал и повел Юльку в чащу, глубже, еще глубже, через буреломы, овраги, подальше от залитых солнцем полянок и тропинок. И там, в высокой траве, в знойной, звенящей лесными тварями тишине, среди цветов и жестких стеблей каких-то колючих трав, они снова и снова любили друг друга, они наслаждались друг другом, они друг другу принадлежали. И обо всем, обо всем они говорили.
— Ненавижу эти глаголы: отдаваться, принадлежать… — сказала Юлька. — Никому я не отдаюсь, так и знай! Это я, я сама, моя душа, мой ум и мое тело. Как это — кому-то себя отдать?
Он тогда пробормотал что-то о Володе, о том, что она принадлежит мужу.
— Не может быть собственности на человека, — задумчиво повторила Юля и, лежа у него на плече, глядя в шелковое прозрачное небо, рассказала о себе и о Володе.
Он слушал молча, не шевелясь — плечо было каменным, — слушал и ненавидел, ненавидел, ненавидел этого «хорошего парня», который отирался возле его Юльки чуть ли не три года и уговорил-таки выйти за него замуж.
— Понимаешь, мне никто как-то не нравился… Понимаешь, мне нравился ты, но ты был таким взрослым, таким… женатым… суровым… А больше — никто. Я думала — вдруг так будет всегда?
— И решила выйти замуж, пока не поздно? — не выдержал Павел.
Почему ему так хотелось сделать ей больно? Но если ей и стало больно, она эту боль спрятала.
— Нет, — просто сказала она. — Меня привязала любовь: нас ведь не только своя любовь держит, чужая — тоже, да еще как! А потом, когда мы уже поженились, я часто ему завидовала: хорошо, наверное, жить с человеком, которого любишь. А он любил…
— Но как ты можешь… — простонал Павел, — как можешь с ним жить?..
— Ты чего стонешь? — полоснул его резкий голос Тани. — Заложило уши, да? Проглоти слюну: снижаемся.
Павел машинально глотнул, открыл глаза. Он и в самом деле задремал и увидел все, о чем только что думал: лес, Юлю, летнее небо. И та же боль ударила его: что будет, когда вернется из Парижа этот проклятый муж?..
Он не посмел тогда об этом спросить и вот сидит теперь, вдавливаясь в жаркое кресло, изо всех сил вцепившись в него, сидит и корчится от непереносимой муки.
— У тебя что, зубы болят? — продолжал пытать его резкий голос. Таня неодобрительно покачала головой. — Что-то ты мне не нравишься…
Павел ничего не ответил, снова закрыл глаза и открыл, когда самолет, подпрыгивая, уже катился по бетонной дорожке аэродрома.
Они вышли на раскаленное поле, доехали в широком открытом вагончике до стеклянного здания аэровокзала, постояли в шумной толпе, дожидаясь багажа, потом сели в такси — машин было много — и скоро уже входили в большой, пропитанный ароматами южных цветов парк, в глубине которого виднелись знакомые белые корпуса санатория.
— Наконец-то, — вздохнула Таня, когда они вошли в прохладный просторный холл.
— С приездом, Татьяна Юрьевна, — узнала их женщина за столиком, и Таня удовлетворенно улыбнулась.
— Спасибо, Марья Пантелеевна. Нам бы комнату окнами на море, и поспокойнее. В первом корпусе, если можно. Павел Петрович совсем замотался — руководил отделом, знаете…
Таня вынула из сумки флакончик терпких польских духов — в этом году они были в моде, — поставила на столик.
— Ну что вы, — зарделась женщина, и флакончик в ту же минуту исчез в ящике ее стола. — Я дам вам номер семнадцатый, как раз сегодня освободился: уехал товарищ из ВЦСПС. — Женщина почему-то понизила голос. — Очень они привередничали…
Павел усмехнулся: видела бы эту сцену Юлька, с ее-то неприятием кастовости! Он представил изумленные, веселые глаза, тоскливо взглянул на Марью Пантелеевну — ну и имя, — обнял за плечи Сашу.
— Пошли, сын, в номер семнадцатый. Устал я что-то…
— Устал? — удивился Саша. — А я пожру и на море! А ты разве нет?
— Не знаю… — неопределенно пожал плечами Павел. — Может быть… Вообще-то не хочется…
«Родная моя, я о тебе тоскую! Очень тяжело и трудно тоскую! Люблю тебя очень и не знаю, как без тебя дальше…»
Павел откинулся на спинку шезлонга, вздохнул и уставился на торчащие перед самым носом длинные кипарисы. Он сидел на балконе и писал Юле письмо — второе за сегодняшний день.
Таня наконец-то ушла принимать свои драгоценные ванны, Сашка на море — они с Павлом дружно отразили натиск Татьяны и отвертелись от ванн, — а он и на море идти не в силах. Сидит, и горюет, и пишет письма, полные восклицательных знаков, жалкой беспомощной ревности и вопросов на одну и ту же тему: любит ли его Юля?
Сейчас он напишет письмо, возьмет плавки и мохнатую простыню и потащится на пляж. Но сначала он сделает крюк, зайдет на деревянную, спрятавшуюся в узкой тенистой улочке почту, молча положит перед уже знакомой девушкой паспорт и постоит у окошка, напряженно глядя на короткие загорелые пальцы, неторопливо перебирающие конверты.
Девушка вернет ему паспорт с вложенным в него письмом, он скажет «спасибо», выйдет на улочку и сядет на свою, еще в первый день облюбованную скамейку. Скамейка зеленая, теплая от солнца, со старым как мир признанием: «Вера + Петя = любовь». Последние буквы корявы: нож наверняка затупился. Но в конце признания стоит большой восклицательный знак — неизвестный гравер не спешил закончить работу. Наверное, так же сидел, и маялся, и тосковал, но писем писать не стал, а излил свою любовь совсем уж отчаянно — ножом по дереву, чтоб навсегда, навеки, пока не сгниет скамья.
Павел посидит, почитает адрес, полюбуется Юлькиным корявым почерком. Какой он у нее смешной: крупный, разлапистый, все буквы Юлька пишет, не отрывая руки, — как только понимают ее машинистки? Потом он не спеша вскроет конверт и станет читать, борясь с искушением заглянуть в конец. В конце почти всегда что-нибудь неожиданное, уже после «целую», после размашистой подписи, что-то такое, что Юлька забыла написать, решила добавить, что-то, что произошло, когда письмо уже было написано. Она дописывает снизу, сбоку, на рваном клочке бумаги или прямо на конверте, на обратной его стороне, и эти последние, торопливые фразы радуют Павла, — значит, ей тоже хочется все-все ему рассказать.