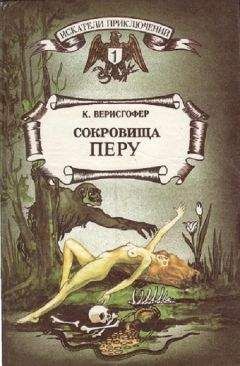В первые месяцы мы с Лизой то и дело скандалили. Обсуждая войну и другие важные проблемы, мы постоянно находились на грани ссоры. То, что они с Хансом не разговаривали, мне совершенно не мешало, мне от этого было только спокойнее.
До тех пор, пока мне не пришла в голову мысль, что, может быть, она тайно влюблена в тихого Ханса. Эта мысль разъярила меня, и только тут я понял, что сам в нее влюблен. После нескольких лихорадочных, полных сомнений и колебаний недель я объяснился ей — в стихах, на которые она, слава Богу, сразу ответила. После обмена посланиями мы стали искать возможностей остаться наедине. Это было затишьем перед бурей. Хуже всего то, что мы весь день были вместе, но тут же, рядом с нами, постоянно пребывали мои родители — не самый удачный расклад для развития любовных отношений. И все-таки мы находили возможность уединяться.
Ханс почти совсем перестал разговаривать со мной, но по вечерам, закончив домашнюю работу, отдавал мне книги. И мы с Лизой стали вместе готовить уроки.
Теперь, оглядываясь назад, я не могу припомнить серьезных размолвок. Лиза буйствовала и была непредсказуема, но меня это не раздражало. Ханс читал в сторонке свои книги. Со мною он был сдержан, точно так же, как в самом начале. Я больше не пытался наладить с ним отношения. Более того, я его сторонился.
Наверное, именно поэтому я только через полгода заметил, что он слишком часто поглядывает на Лизу. Сама она заметила это гораздо раньше. И говорила мне, что ей это неприятно.
Я понимал, почему Ханс заглядывается на Лизу. Нам с Лизой было почти по шестнадцать, Хансу — семнадцать; все мы вступили в возраст, когда гормоны имели колоссальное влияние на наш внутренний мир. Но мне это было неприятно, хотя Ханс не делал ничего особенного, никогда не говорил с Лизой, только смотрел.
Мы с Лизой составили идеальную пару, а она всегда так вышучивала Ханса, что у меня не возникало никаких дурных мыслей. Я жить без нее не мог и знал, что она от меня без ума. Мы не представляли будущего друг без друга — если у нас могло быть какое-то будущее, — но, даже при не вполне ясном будущем, настоящее все-таки было общим. Мы, наивные дети, забыли о войне, которой там, во Фрисландии, просто не было…
Ужасы, о которых мы узнавали стороной, казались нереальными — мы были слишком заняты друг другом. И продолжали упрямо планировать свою послевоенную жизнь — чем мы займемся после того, как поженимся. Она станет летчицей, я — киноактером, или писателем, или музыкантом. То, что мы останемся вместе, не вызывало сомнений.
Однажды я заболел и проспал целый день. Вечером, около восьми, я собрался в туалет. Я не видел Лизу несколько часов, решил, что она, как обычно, читает в кладовке, и по дороге тихонько открыл дверь, чтобы напугать ее.
И она напугалась.
Перед тем, как я открыл дверь, она, очевидно, держала юбку задранной, но мгновенно отпустила ее.
И я увидел только торчащие из-под юбки длинное тело и шею. Ханс. Странно, но он застыл на месте, как ребенок, считающий, что если закрыть лицо, его никто не увидит.
— И давно это вы?.. — спросил я.
Ее распахнутые глаза, разинутый в ужасе рот. Она молчала, испуганно глядя на меня. Тут голова Ханса показалась из-под ее юбки, и она беззвучно заплакала. Я хотел уйти, но она крикнула:
— Нет! Ты ничего не понимаешь!
Ханс молча посмотрел на нее, потом на меня. Во взгляде его было то, чего я никогда раньше не видел. Насмешка. Ненависть.
И он сказал:
— Извини, Сэм. Война.
Это звучало искусственно безразлично, словно он заготовил фразу заранее и теперь действовал в соответствии с планом. Словно принял волевое решение: раз война, я могу брать все, что захочу. В его голосе мне послышался триумф.
Опустив глаза, он вышел из кладовки. Лиза бросилась ко мне, но я, конечно, оттолкнул ее.
Я не мог себе простить, что ничего не заметил раньше. Любопытство Ханса и его демонстративное дружелюбие были порождены ненавистью. И ревнивым желанием получить то, что ему не могло принадлежать.
Впервые до меня дошло, что, может быть, Лиза не станет моей женой. Более того: не известно, любим ли мы друг друга или просто оказались рядом, в замкнутом пространстве?
Сама Лиза вечером, плача, уверяла меня, что ей захотелось узнать, что означают взгляды Ханса, что она недооценила силу его скрытого вожделения. И как она сожалеет о том, что произошло. Ханс для нее — пустое место, она любит только меня. „Что случилось со мной, как я могла, что они с нами сделали, как мы дошли до такого?“ Что-то в этом роде. Я жалел ее, но был жутко зол. Казалось, все вокруг меня умирает или уже умерло. Ханс, мы, война. Эта идиотская ферма…
Как ни противно мне было, я несколько раз заставил ее рассказать мне все, до мельчайших подробностей. Я чувствовал: что-то не сходится, что-то я упустил, но не понимал что. Одно я знал точно: Ханс сделал то, что сделал, не потому, что влюблен. Но ей я этого не сказал. Лиза плакала несколько дней. Я думал: чувствует себя виноватой, пускай — и не успокаивал ее.
Ханса я просто возненавидел. Не столько за то, что он сделал, сколько за этот жуткий взгляд. Я никогда не сталкивался с такой ненавистью. Было до смерти страшно, но ярость, которую я испытывал, не уступала страху.
„Извини, Сэм. Война“.
Словно он был высшим существом, а не обычным человеком, как я. Или как Лиза. Моя Лиза, которую он осквернил, которую он унизил и сделал грязной. Моя несчастная предательница.
Следующая неделя была странной. Мы, все трое, старательно избегали друг друга. Я чувствовал себя невероятно одиноким.
Наконец — было около шести вечера, мы как раз отобедали — снаружи донесся шум мотора грузовика. Это могло означать только одно.
Шок был чудовищный. Думаю, никто из нас не ожидал, что это может случиться. Мы знали, как действовать в случае угрозы. Мгновенно, очень организованно, заняли свои места на чердаке. И притаились там тихо, как мыши. Снизу доносился шум. Я слышал вопросы и ответы, но не мог разобрать слов. Голос Ханса, иногда — голос фермерши, сопротивление, утешительное бормотание, и потом — громкий крик. Я сидел рядом с мамой, у нее стучали зубы; Лиза сидела напротив — мы смотрели друг на друга… Все, что происходило вокруг, вдруг сделалось не важным.
Лиза хотела что-то сказать, я видел, что информация, которую она должна сообщить мне, буквально разрывает ее, но нарушить тишину она не смела. И стала беззвучно шевелить губами, произнося слова, которые никто не мог слышать.
„Ханс“, — прочел я по ее губам и сперва не понял, о чем она.
„Он, — продолжала она, широко раскрыв глаза и указывая пальцем вниз. — Я уверена, это он“.
Я думал о том, что это могло значить, но не мог поверить. Она указала на дверь кладовки.
„Я не могла об этом говорить“, — прочитал я по ее губам, потом она прошептала:
— Ханс говорил, что выдаст нас, если я расскажу, что он на самом деле со мной сделал. Он принудил меня, я не хотела! Он сказал, что увидит по тебе, если ты узнаешь об этом, что ты для него — открытая книга, что он экспериментирует над тобой… — Она беззвучно всхлипнула. — А теперь… Теперь он сделал это, а ведь я ничего тебе не сказала!
Она молча трясла головой, прислушиваясь к происходящему внизу, к голосу Ханса, и я понял то, во что не мог поверить. Только теперь понял все до конца.
Нас посадили в разные грузовики: мужчин — в один, женщин — в другой. Родителей Ханса тоже забрали. Я обнял маму. Лиза посмотрела на меня. Ее взгляд — последнее, что я увидел, прежде чем залезть в машину. Маму и папу я встретил в Вестерборке. Лизу я там не нашел».
67
«Через много, много лет, когда у меня появилось время, чтобы все обдумать, я попробовал представить себе, как Ханс — с его утонченными интересами — мог вступить в сговор с лишенным морали монстром, уничтожившим мою семью.
Мои родители так и не вернулись.
Единственное благовидное объяснение, с которым я могу жить и которое время от времени приносит мне дерьмовое, горькое успокоение, — что Ханс чувствовал себя виноватым из-за того, что он сделал с Лизой. И чувство вины вместе с ситуацией, из которой он не видел выхода, привели его к предательству.
Другими словами, внутри него ревнивый мальчишка из семьи, давшей убежище евреям, боролся с юношей, пытавшимся сломать границы собственной морали, с будущим членом нацистской партии… И мы стали жертвами этого мальчишки.
Впрочем, может быть, это слишком благожелательное описание Ханса Феддерса ван Флиита, из-за которого я попал в ад».
68После войны Сэм отыскал Лизу через Красный Крест и Еврейский фонд взаимопомощи.
Несколько месяцев его посылали из одного учреждения в другое, пока он не получил сведений о ней. Лиза, как и он, выжила. Он мог бы разыскать ее еще в Вестерборке, она тоже была там, хотя и недолго. Потом ее отправили в Равенсбрюк. То, что она вышла оттуда живой, — настоящее чудо, этот лагерь был хуже Терезиенштадта и Освенцима, вместе взятых.