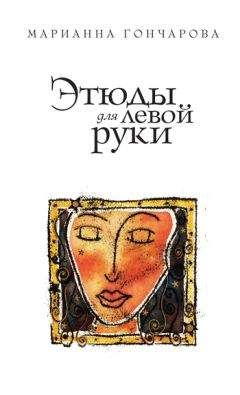А недавно мальчишки в классе разошлись, стали хулиганить и на уроке истории искусств оплевали Тузика Сергея Владимировича из трубочек ворованным из кабинета труда бисером. И Тузик заплакал. И даже очень громко заплакал и выбежал из класса. И прижался лбом к окну в коридоре. А следом выбежала добрая Линка, подошла осторожно и положила ему руку на плечо: «Сергей Владимирович, вы не расстраивайтесь…» А Тузик обиженно дернул плечом, сбросив Линкину руку, и как рванет по коридору подальше, в холл, к входной двери – и убежал домой. А за ним побежали Лина и ее подружка Маша, и ее подружка Ксюшка, и две Алинки побежали следом, потащили его пальто, шапку, шарф и портфелик старый, виды видавший.
На следующий день в Линкин класс с глухим рычанием вломился Тузик-старший, Тузикин, значит, папа. Тоже Тузик, но Владимир Сергеевич и полная противоположность Тузику-младшему, свирепый и дурной, как волкодав. Ворвался в девятый класс и давай разбираться. Мстить. И стоял перед классом и рубил кулаком и угрожал, помогая себе выражениями лица, и рррыкал на каждого, отдельно резко вскидывая большую и злобную голову. И класс замер, воцарилась, как пишут, мертвая тишина, но вдруг тихонько заскрипела и приоткрылась дверь, и в двери показался нос Тузика-младшего, Сергея Владимировича, который все это время стоял под дверью и переживал. И Тузик-младший проскулил: «Па… ну пааа… Ну не надо, пааап…»
А Владимир Сергеевич Тузик отмахнул в его сторону рукой сплеча и шикнул на него: «Уди, Стебелек! Я с ними тут сам разберусь».
И все в классе сначала прыскали опасливо, а потом не выдержали, и грохнул смех. Потому что Тузик – еще ладно, но Стебелек – это все. Только Линка не смеялась, и все вокруг нее сидящие – рядом, сбоку и сзади – тоже молчали, потому что Линка на всех выразительно смотрела. А Лина, она ведь моя дочечка, она умеет выразительно смотреть.
Затем папа Тузик забрал своего сына Тузика-Стебелька из школы.
Ну и правильно.
Недавно мы видели его в центре города на вернисаже – он сидит рядом со своими картинами, где вода, птицы, горы… И рисует портреты сплошной линией… рисует, склонив над листком свое печальное, прозрачное, отрешенное лицо.
Я заметила, что у настоящих талантов во время работы одинаковые лица. Прозрачные, отрешенные и немного печальные.
Иностранцы его работы хорошо покупают. А Линка наша как стала около него, так стояла и стояла. И уходить не хотела… А на обратном пути была молчалива и тиха и вдруг сказала, что если бы все были такие, как Стебелек, то в мире была бы гармония, любовь и покой…
«Ну, – добавила она, – пусть еще пару человек будут такие, как Тузик-старший. Такие тоже нужны. Для спокойствия и безопасности Стебельков».
Моя мама училась в женской школе. Класс был – ну просто Смольный, кого там только не было: такие девушки, из лучших черновицких семей. А одна была, Иза, – дочь знаменитых актеров Черновицкого драмтеатра.
Она такая была осведомленная обо всем. Говорит, например, что эталон красоты – это когда равные промежутки от лба до носа, от носа до подбородка.
Учительница чуть не ополоумела, когда увидела девочек своего класса с линейками в руках – все что-то мерили на своих лицах. Некоторые даже плакали.
Это было в шестом классе.
Она же говорила, но уже в восьмом классе:
«Мужчина – это такой вид, с которым нельзя говорить намеками. Он не поймет.
Ему надо прямо, односложно и желательно командным голосом:
Ко мне! Сидеть! Чинить! Встать! Вперед! Работать! Голос! Бежать! В магазин! Апорт!»
Были в моей жизни три человека, которые воспитали во мне силу духа.
Она была нянечка в детском саду. Я настолько ее ненавидела, что имя ее не могу вспомнить даже сейчас. Она была образ-без-имени, она была чудовище, монстр, она была – Она. Я так ее боялась, что никогда-никогда не смотрела ей в лицо. И хотя у меня хорошая память на лица и я могу описать и даже нарисовать человека по памяти, я помню только ее огромную чугунную литую бесформенность и какое-то – если можно так сказать – несвежее, мятое коричневое поле вокруг нее, медленно, тяжело, неотвратимо наступающей.
Долгое время, уже сильно повзрослев, каждое утро я ходила с сыном мимо ее дома, провожая его в школу, вежливо здоровалась с ней, торчащей из-за калитки, а она смотрела на меня злобно – впрочем, она на всех так злобно смотрела, ее не устраивала жизнь как таковая, – злобно смотрела и понимала, что я помню. Что именно из того, что она за свою жизнь совершила, этого она не могла знать. Но ненавидела меня за то, что я помню.
Меня стали водить в садик уже перед самым первым классом, чтобы я, как сказал папа, привыкала к коллективу. И я стала привыкать. Но не привыкалось. В коллективе уже были свои правила и законы.
Однажды нас уложили на дневной сон. И сказали, что накажут, если мы не будем спать. А спать не хотелось. И я тихо лежала с открытыми глазами. А Толя Галак прыгал с кровати на кровать и смотрел, кто спит, а кто не спит. И верещал: «Агааа!!! Не спииишь?! Будет скааазано!»
И дети закрывали глаза плотно-плотно, сморщивая носы, чтоб не было сказано.
А я не могла – какое-то внутреннее сопротивление и надежда на справедливость взрослых и, наверное, гордыня – не знаю – не позволяли мне подчиниться ситуации и закрыть глаза из страха перед доносчиком Галаком.
И вот Она пришла в спальню. И Галак подскочил к ней, великовозрастной женщине с немалым опытом работы с детьми, и стал тыкать пальцем в меня и еще в нескольких детей, которые его, Галака, не испугались: «Вот Яворский не спал! И Ханчирова не спАла! И Векслер не спАла!»
И вот всех детей подняли и повели на полдник. И ябеду Галака подняли, погладили по головке и повели пить сок. А нас, нескольких нарушителей, оставили в полутемной спальне и выстроили в линеечку. И Она наклонялась к каждому и ритмично повторяла что-то программно-садиковое: «Я вам говорила или нет, говорила или нет, говорила спать или нет, а то накажу, говорила или нет?» Так монотонно, постепенно взвинчивая себя, она ходила вдоль нашей жалкой шеренгочки и шаркала-шаркала большими растоптанными грязно-оранжевыми шлепанцами, говорила все быстрей, все громче, все быстрей и громче-громче. Наконец она довела себя до нужного состояния и… больно отшлепала каждого из нас по попе – стянула трусы и отшлепала.
И та же гордыня не позволила мне открыть рот и сказать, что я лежала тихо и смотрела в потолок, а Галак прыгал по всей спальне и не давал спать даже тем, кто хотел уснуть.
Меня она била по попе как-то очень изощренно, задыхаясь и приговаривая: «Скажешь своей мамке, какая ты непослушная, скааааажешь своей мамке. – И добавила странное, что я помню и сейчас: – А то – вабше уж!»
Я как-то чуть раньше во дворе детсада вдруг подслушала разговор воспитателей – они ведь всегда собирались кружком и сплетничали. Про мою маму. Что она ходит в модном полупальто и шляпочке. И что она, конечно, немножко надменная, и дочка у нее заносчивая, ну так что ж – штучка-то приезжая, но ничего – она ж молодая, и милая, и очень вежливая. И стройная, как девочка. И эта самая Она злобно повторила за кем-то, кто наивно восхищался красотой моей мамы: «Как деееевачка… А разговаривает как… как… с прислугой».
– Это как это? – удивилась Елена Васильевна, моя воспитательница.
– Та непонятно ваабше, шо говорит. Будьте любезны, мойте руки… Вапше уж!
И вот эту самую глубоко затаенную неистовую дремучую злобу и зависть я почувствовала в тот момент, когда она меня остервенело лупила.
Я тогда не понимала, почему Она так себя вела, почему она чувствовала такое нервное возбуждение, когда шлепала именно меня, но интуитивно повела себя правильно – маме я ничего в тот день не сказала. Опять же из гордыни и какого-то внутреннего сопротивления.
И мама продолжала быть с ней вежливой, доброжелательной и отстраненной. Как с прислугой.
Маме я тогда ничего не сказала.
Она прочтет об этом только сейчас.
Вторым человеком, укрепившим мой дух, была первая учительница ЛП.
ЛП детей любила… беспощадно. Строгая, с седой прядью, она мне казалась очень старой, хотя наверняка была помоложе, чем я сейчас. Я помню, что у нее были плоские длинные пальцы. Как будто высушенные для гербария – такие плоские. И чистые-чистые, коротко остриженные ногти.
Мне обследовали глаза и закапывали атропином.
ЛП давала диктант. И я сказала, что не могу писать, мне не видно. А она закричала, такой у нее был скрипучий голос – старый голос: «Не ври, Гончарова!» (Что за мода у них была хлестать маленьких детей фамилиями.) И кинула мне на парту тетрадь для контрольных диктантов. Я была просто потрясена, что ЛП мне не поверила. Это вообще случилось впервые в моей жизни, что мне вдруг не поверили. Дома мне верили, друзья мне верили, я всем верила, а ЛП мне вдруг не поверила. И я стала писать под диктовку – на ощупь. Потом, когда мне выписали очки и действие атропина прошло, я увидела, как криво и страшно были написаны слова «Настя живет в деревне. У Насти во дворе гуси, куры и кролики. Настина мама работает в колхозе дояркой. Настина мама встает в пять часов утра».