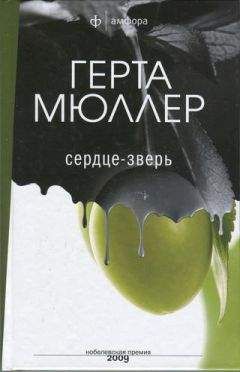Когда вечерний поезд с Эдгаром скрылся и рельсы опустели, я увидела между шпалами битый камень — щебенку. Каждый камешек не больше ореха. Чуть дальше рельсы бежали по загаженной маслом траве. А небо убегало еще дальше. Я медленно побрела в ту сторону, куда уехал поезд, шла, пока не кончился перрон. Там я повернула назад.
Я стояла под большими вокзальными часами и смотрела на людей, которые сновали туда-сюда с корзинами и мешками, смотрела на прыгающую секундную стрелку часов, на автобусы, которые, поворачивая за угол, едва протискивали между домами свои животы. Вдруг я заметила, что в руках у меня только моя сумка, а орехи я, должно быть, забыла на скамейке. Я вернулась на перрон. На рельсах уже стоял следующий поезд. На скамейке было пусто.
Только одна дорога была у меня — дорога к телефонной будке.
Один гудок, второй, потом я назвалась каким-то чужим именем. Терезин отец поверил и позвал ее.
Тереза пришла в город к безвершинной иве с тремя стволами, росшей на берегу довольно далеко от других. Приоткрыв сумку, я показала Терезе стеклянную банку и кисть.
— К дому я тебя приведу, — сказала Тереза, — но участвовать — нетушки. Подожду тебя на соседней улице.
В банку я днем наложила кучу, с тем чтобы вымазать дерьмом стену дома капитана Пжеле. Решила написать «гад» или «пес» под его высокими окнами. Слова короткие, управлюсь быстро.
На дверях дома, где, как говорили, жил капитан Пжеле, значилась другая фамилия. Зато Тереза знала адрес директора фабрики. Мы пошли туда.
За шторами еще горел свет. Тереза и я ждали. Время близилось к полночи, мы ходили взад-вперед по улице. Терезины браслеты позвякивали. Я попросила снять их. Потом ветер раскачивал разные черные предметы. На обочине росли кусты, а мне виделись мужчины. В припаркованных машинах никто не сидел, а мне за стеклами виделись лица. Поблизости не было деревьев, а на дорожку падали листья. Наши ноги топали, шаркали. Тереза заметила:
— У тебя плохие туфли.
Месяц был как сдобный рогалик.
— Завтра он будет ярче, — сказала Тереза, — он растет, горб у него справа.
Перед домом фонарь. Такие дома всегда хорошо освещены. Это неплохо, так как видно стену. Но и нас тоже видно.
Я нашла подходящее место — между двумя окнами, прямо посередке. Сунула кисть в карман куртки, отвинтила с банки крышку, отдала ее Терезе. Сумку оставила незастегнутой.
— Ну и вонища! Можно подумать, тебя уже поймали и развонялись, — сказала Тереза. И ушла, захватив крышку, на другую улицу.
Когда на другую улицу пришла я, там никого не оказалось. Я шла от забора к забору, от подворотни к подворотне, от дерева к дереву. Лишь в самом конце улицы кто-то отделился от ствола дерева, словно вышел из двери. Я трижды изо всех сил таращила глаза, пока этот кто-то не стал Терезой. Я вдохнула запах ее духов.
— Пошли, — она потянула меня за локоть. — Господи, ну и долго же ты возилась! Что написала-то?
Я сказала:
— Ничего. Просто поставила банку перед воротами.
Тереза засмеялась-закудахтала. Ее длинная белая шея покачивалась на ходу, как будто прямо от плеч начинались ноги.
— Все еще воняет. Не иначе ты замаралась дерьмом, — сказала Тереза.
— Где крышка? — спросила я.
— У дерева, где я ждала, — ответила Тереза.
Кисть мы бросили с моста в реку. Вода была черная и тихая, как тайное ожидание. Мы замерли, боясь пошевельнуться, но всплеска не услышали. Я подумала: наверняка кисть не долетела до воды. И вдруг поперхнулась и закашлялась, словно волоски от кисти скребли в горле. Поглядев на месяц-рогалик, я уже не сомневалась: кисть парит в воздухе и рисует над этим городом купол с черными ребрами — ночь.
Эдгар опять приехал в город. Уже несколько часов мы с ним сидели в бодеге и ждали Георга. Георг не пришел. Пришли два полицейских, стали ходить от стола к столу. Пролетарии жестяных баранов и деревянных арбузов предъявляли документы и называли свое место работы.
Сумасшедший с белой бородой дернул полицейского за рукав, показал вчетверо сложенный носовой платок и представился: «Профессор философии».
Вышибала поволок сумасшедшего к выходу. «Я подам на вас в суд, молодой человек! — кричал белобородый старик. — На вас и на полицейского! Знайте, овцы съедят! Вам не уйти от овец, на сей счет не питайте иллюзий! Сегодня ночью упадет звезда, и овцы съедят вас, повыдергают из подушек, как траву».
Эдгар предъявил свое удостоверение. «Преподаватель лицея легкой промышленности, — сказал он. — Лицей, а рядом музей». Я тоже показала паспорт, сказала: переводчица, назвала фабрику, откуда была уволена. В голове у меня шумело, я не мигая глядела в глаза молодому полицейскому, чтобы он не заметил, как бешено стучит кровь у меня в висках. Он пролистал паспорта и вернул их нам. Эдгар буркнул: «Наше счастье».
И взглянул на часы: ему было пора на вокзал. Я осталась за столиком. Когда Эдгар встал, я заметила, как его рука мимоходом погладила сиденье пустого стула. Придвинув этот стул к столу, Эдгар сказал: «Георг, конечно, уже не придет».
После ухода Эдгара рабочие, пившие тут после смены, расшумелись еще больше. Звенели стаканы, в воздухе клубился дым. Стучали стулья, шаркали башмаки. Полицейские давно ушли. Я выпила еще кружку пива, с трудом глотая, — на вкус оно было как мочегонный травяной отвар.
Краснощекий толстяк усадил себе на колени официантку. Она хохотала. Какой-то беззубый ткнул сосиску в горчицу, потом — в рот подавальщице. Она откусила и стала жевать, запястьем вытирая горчицу с подбородка.
Как же все эти мужчины жаждали любви, как же все они, дождавшись окончания смены, набрасывались, где-нибудь подальше от своего дома, на любовь — и сами же над нею глумились. Те же мужчины, что следом за Лолой спешили в кудлатый парк, те же, что в глухонемые ночи насиловали карлицу на площади. Те же, что продавали и пропивали распятого Иисуса в мешке. И таскали своим женам кто телячьи почки, кто паркетные плашки. А детям или любовницам дарили зайчат, серых, как сухая земля. Георг со своей куриной маетой тоже такой, и простушка из деревни сообщников, та соседка с глазами в крапинку, о которой Курт сказал, что она смеется, как сбитый с толку зверек. Но ведь и Курт такой же, с его полевыми цветами, которые после долгой дороги в душном поезде слишком поздно попали в руки фрау Маргит и уже не подняли поникшие головки. И портниха, которая брала деньги за судьбу и вешала на своих детей золотые сердца. И жена Меховика, с той шапкой из нутрии. И Эдгар, с орехами. Но ведь и сама я такая же — с теми венгерскими леденцами для фрау Маргит. И с тем мужчиной, о котором не грустила после его смерти. Все, что было между нами, показалось мне будничным, как кусок хлеба: съели, и всё тут. И та примятая трава в лесу. И то, что я — соломинка с открытым телом и закрытыми глазами, способная выдержать, когда деревья с пустыми вороньими гнездами смотрят, как она, кусок навоза на земле, и пылает, и леденеет.
Сумасшедший с белой бородой вернулся в бодегу. Проковылял к моему столику и допил остатки из кружки Эдгара. Там и было-то на палец от донышка. Слушая, как он хлюпал опивками, я опять вспомнила свой сон, о котором рассказала Эдгару.
Маленький красный самокат, слышно урчание мотора. Но мотора у него нет, — мужчина, стоящий на доске самоката, отталкивается ногой. Он едет быстро, даже шарф развевается. Все это происходит, видимо, в комнате, сказала я Эдгару, так как самокат едет по паркетному полу. Едет, доезжает до какой-то ступеньки и вдруг исчезает, провалившись в черную дыру между полом и ступенькой. Самокат и мужчина исчезли, а в провале я вижу белые глаза. Один из прохожих, которые идут по паркету мимо меня, говорит: «Это аварийный самокат».
Лучше пусть бабушка всегда поет, мама всегда раскатывает по столу тесто, дедушка всегда играет в шахматы, отец всегда выкорчевывает молочай, — это лучше, чем внезапные, неизвестно какие перемены. Лучше пусть все они, такие противные, всегда будут противными, только бы они не сделались другими людьми, думает ребенок. Лучше быть дома, в комнате и в саду, с противными людьми, чем попасть к чужим и насовсем у них остаться.
Спустя два дня в город приехал Курт. Он преподнес фрау Маргит букет из полевых вьюнков. Цветы с высунутыми красными язычками, пахнущие свежими пирогами.
«Соседка с глазами в крапинку, — рассказал Курт, — вчера вечером постучалась в окно. Стоит и держит на руках зайчонка. Она сказала, что Георг подрался с какими-то неизвестными, в городе, на вокзале. Георг в больнице. Вчера утром, — сказал Курт, — я ходил в поселок. С другой стороны улицы меня окликнул полицейский. Я не перешел к нему, остался на своей стороне. Наклонился и поднял с земли желтый лист. Зажал стебелек зубами и стою. Полицейский перешел через дорогу, протянул мне руку и пригласил к себе домой выпить по рюмочке. Я сказал, чтобы он перестал мне тыкать. Он в ответ: „Ну, это мы еще посмотрим“. Дом полицейского как раз рядом с тем, возле которого мы стояли. От выпивки я отказался. Полицейский думал, я пойду дальше своей дорогой, а я ни с места, только листок этот желтый все быстрее гоняю во рту туда-сюда. Полицейскому уже нечего было сказать, но и уйти он не мог. Чтобы не видеть, как этот лист у меня в зубах вертится, он наклонился и стал завязывать шнурки. Я выплюнул листок, тот упал чуть ли не в руки полицейскому, а я ушел. Он что-то буркнул мне вслед, — верно, выругался».