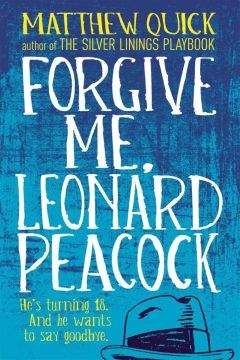Ознакомительная версия.
– Ну вот. А мы тут вроде пчелок.
Все трое засмеялись, и смеялись очень долго, даже тогда, когда причина смеха успела забыться. «Эх, – с умилением подумал Татарский, – есть же на свете хорошие люди!»
Наконец веселье угасло. Хозяин кабинета поглядел по сторонам, как бы вспоминая, зачем он здесь, и, видимо, вспомнил.
– Так, – сказал он, – к делу. Морковка, подожди у Аллы. Я с человеком поговорю.
Морковин торопливо обнюхал пару райских васильков, поднялся и вышел. Встав, хозяин кабинета потянулся, прошел за письменный стол и опустился в кресло.
– Присаживайся, – сказал он.
Татарский сел в кресло напротив стола. Оно было очень мягким и таким низким, что он провалился в него, как в сугроб. Подняв глаза, Татарский обомлел. Стол нависал над ним, как танк над окопом, и это сходство явно не было случайным. Две тумбы, украшенные пластинами из гофрированного никеля, выглядели точь-в-точь как широкие гусеничные траки, а картина в круглой раме, висевшая на стене, оказалась прямо за головой хозяина кабинета и напоминала теперь крышку люка, из которого он высунулся, – сходство усиливалось тем, что над столом были видны только его голова и плечи. Несколько секунд он наслаждался произведенным эффектом, а потом встал, перегнулся над своим танком и протянул Татарскому руку:
– Леонид Азадовский.
– Владимир Татарский, – сказал Татарский, приподнимаясь и пожимая пухлую вялую ладонь.
– Ты не Владимир, а Вавилен, – сказал Азадовский. – Я про это знаю. Только и я не Леонид. У меня папаша тоже мудак был. Он меня знаешь как назвал? Легионом. Даже не знал, наверно, что это слово значит. Сначала я тоже горевал. Зато потом выяснил, что про меня в Библии написано, и успокоился. Значит, так…
Азадовский зашелестел разбросанными по столу 6умагами.
– Что там у нас… Ага. Посмотрел я твои работы. Мне понравилось. Молодец. Такие нам нужны. Только вот местами… не до конца верю. Вот, например, ты пишешь: «коллективное бессознательное». А ты знаешь, что это такое?
Татарский пошевелил в воздухе пальцами, подбирая слова.
– На уровне коллективного бессознательного, – ответил он.
– А ты не боишься, что найдется кто-то, кто знает отчетливо?
Татарский шмыгнул носом.
– Господин Азадовский, – сказал он, – я этого не боюсь. Потому не боюсь, что все, кто отчетливо знает, что такое «коллективное бессознательное», давно торгуют сигаретами у метро. В той или иной форме, я хочу сказать. Я и сам у метро сигаретами торговал. А в рекламный бизнес ушел, потому что надоело.
Азадовский несколько секунд молчал, обдумывая услышанное. Потом он усмехнулся.
– Ты хоть во что-нибудь веришь? – спросил он.
– Нет, – сказал Татарский.
– Ну хорошо, – сказал Азадовский и снова заглянул в бумаги, на этот раз в какую-то разграфленную анкету. – Так… Политические взгляды – что там у нас? Написано «upper left»[27]. Не понимаю. Вот, блядь, дожили – скоро в документах вообще все по-английски будет. Ты по политическим взглядам кто?
– Рыночник, – ответил Татарский, – довольно радикальный.
– А конкретнее?
– Конкретнее… Скажем так, мне нравится, когда у жизни большие сиськи. Но во мне не вызывает ни малейшего волнения так называемая кантовская сиська в себе, сколько бы молока в ней ни плескалось. И в этом мое отличие от бескорыстных идеалистов вроде Гайдара…
Зазвонил телефон, и Азадовский жестом остановил разговор. Взяв трубку, он несколько минут слушал, и его лицо постепенно сложилось в гримасу отвращения.
– Ищите дальше, – буркнул он, бросил трубку на рычаг и повернулся к Татарскому: – Так чего там про Гайдара? Только короче, а то сейчас опять звонить будут.
– Если короче, – сказал Татарский, – в гробу я видел любую кантовскую сиську в себе со всеми ее категорическими императивами. На рынке сисек нежность во мне вызывает только фейербаховская сиська для нас. Такое у меня видение ситуации.
– Вот и я так думаю, – совершенно серьезно сказал Азадовский, – пусть лучше небольшая, но фейербаховская…
Телефон зазвонил опять. Азадовский взял трубку, послушал немного, и его лицо расцвело широкой улыбкой:
– Вот это я хотел услышать! Контрольный сделали? Хвалю.
Видимо, новость была очень хорошей – встав, Азадовский потер руки, пружинисто пошел к встроенному в стену шкафу, достал из него большую клетку, на дне которой что-то быстро заметалось, и перенес ее на стол. Клетка была старой, со следами ржавчины, и походила на скелет абажура.
– Что это? – спросил Татарский.
– Ростропович, – ответил Азадовский.
Он открыл дверцу, и из клетки на стол вылез маленький белый хомячок. Посмотрев на Татарского маленькими красными глазками, он спрятал мордочку в лапки и потер нос. Азадовский сладко вздохнул, достал из стола что-то вроде сумочки для инструментов, раскрыл ее и выложил на стол пузырек японского клея, пинцет и маленькую баночку.
– Подержи его, – велел он. – Да не бойся, не укусит.
– Как его держать? – вставая с кресла, спросил Татарский.
– Возьми за лапки и разведи их в стороны. Как исусика. Ага, вот так.
Татарский заметил на грудке хомячка несколько зубчатых металлических кружков, похожих на часовые шестеренки. Вглядевшись, он увидел, что это маленькие копии орденов, выполненные с удивительным искусством, – кажется, в них даже мерцали крошечные камни, что усиливало сходство с деталями часов. Ни одного из орденов он не узнал – они явно относились к другой эпохе и напоминали регалии с мундира екатерининского полководца.
– Кто это ему дал? – спросил он.
– А кто ж ему даст, если не я, – пропел Азадовский, вынимая пинцетом из баночки короткую ленточку из синего муара. – Держи крепче.
Выдавив на лист бумаги каплю клея, он ловко провел по ней ленточкой и приложил ее к брюшку хомяка.
– Ой, – сказал Татарский, – он, кажется…
– Обосрался, – констатировал Азадовский, окуная в клей зажатую в пинцете бриллиантовую снежинку, – это он от радости. Оп…
Бросив пинцет на стол, он наклонился к хомячку и несколько раз сильно дунул ему на грудь.
– Сохнет мгновенно, – сообщил он. – Можешь отпускать.
Хомячок суетливо забегал по столу – подбегая к краю, он опускал мордочку, словно пытаясь разглядеть далекий пол, мелко тряс ею и пускался на другой край, где повторялось то же самое.
– За что ему орден? – спросил Татарский.
– А настроение хорошее. Что, завидно?
Поймав хомячка, Азадовский кинул его назад в клетку, запер ее и отнес обратно в шкаф.
– Почему у него имя такое странное?
– Знаешь, Вавилен, – сказал Азадовский, садясь за стол, – чья бы корова мычала, а твоя б молчала.
Татарский вспомнил совет не говорить и не спрашивать лишнего. Азадовский убрал наградные принадлежности в стол, смял испачканный клеем лист и швырнул его в корзину.
– Короче, мы тебя берем с испытательным сроком в три месяца, – сказал он. – У нас сейчас свой отдел рекламы, но мы не столько ее сами разрабатываем, сколько координируем работу нескольких крупных агентств. Типа не играем, а счет ведем. Так что будешь пока сидеть в отделе внутренних рецензий, на третьем этаже в соседнем подъезде. Мы к тебе приглядимся, подумаем, а потом, если подойдешь, переведем на более ответственный участок. Видел, сколько у нас этажей?
– Видел, – сказал Татарский.
– Вот то-то. Пространство для роста не ограничено. Вопросы есть?
Татарский решился задать вопрос, мучивший его с первого момента встречи.
– Скажите, господин Азадовский, я вчера видел клип про какие-то пилюли – это не вы там играли доктора?
– Ну я, – сухо сказал Азадовский. – А что, нельзя?
Отведя взгляд от Татарского, он взял трубку и открыл записную книжку. Татарский понял, что аудиенция окончена. Нерешительно переступив с ноги на ногу, он поглядел на ковер.
– А можно ли…
Азадовский понял его с полуслова. Улыбнувшись, он вытащил соломинку из вазочки и кинул ее на стол.
– Говно вопрос, – сказал он и принялся набирать номер.
Стержневым элементом офисного пространства был пронзительный голос кухарки с Западной Украины, доносившийся почти весь день из небольшого буфета. На него, как на веревку, нанизывались все остальные звенья звуковой реальности: звонки телефонов, голоса, пищание факса и жужжание принтера. И уже вокруг этого сгущались материальные предметы и люди, населявшие комнату, – так, во всяком случае, казалось Татарскому вот уже несколько месяцев.
– Короче, еду я вчера по Покровке, – тенорком рассказывал секретарше залетевший с улицы сигаретный критик, – торможу у перекрестка. Пробка. А рядом со мной «Чайка». И, значит, выходит из нее реально крутой чечен и глядит по сторонам с таким видом, словно ему насрать на всех с высокой колокольни. Стоит он так, знаешь, наслаждается, и тут вдруг рядом останавливается такой реальный «кадиллак». И вылазит из него такая девчушка, в рваных джинсах и кедах, и шнырь к ларьку за пепси-колой. Представляешь себе этого чечена? Такое проглотить!
Ознакомительная версия.