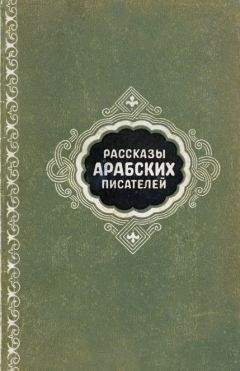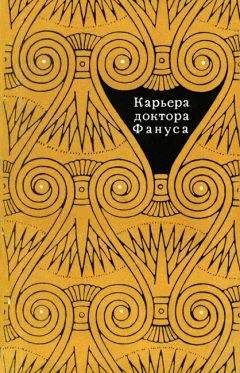— Кто?.. Кто это?
Один из мужчин гнусаво произнес:
— Хм, хм… Вот разрядился!
Старик, притворяясь удивленным, продолжал:
— Кто?.. Абу Авад?!.
— Собственной персоной, словно жених в брачную ночь.
Абу Авад не ответил ни слова. Он достал табак и принялся аккуратно скручивать папиросу, словно все это касалось не его.
В этот момент на площадь вбежал десятилетний мальчишка и закричал:
— Скорее, все сюда! Около восточной дороги убит Авад.
Среди присутствующих раздались приглушенные восклицания.
Взгляды всех с восхищением и уважением остановились на фигуре Абу Авада, на его черном укале с блестящими шариками…
А он, с окаменевшим лицом, которое не выражало ни печали, ни радости, молча продолжал свертывать папиросу умелыми пальцами…
Перевод В. Шагаля
Три дня бушевал буран. Наконец он утих. Перестал падать снег. Караван едва не сбился с пути. Северный ветер погнал облака к югу. Дыхание ветра больно обжигало лица людей. На западе показались багровые лучи заходящего солнца, окрасившие края облаков в темно-красный цвет. Казалось, что огромная капля крови упала на небо и, зацепившись за вершину горы, растеклась по его поверхности.
Тьма подкралась незаметно. Бой утих. Зловещее молчание изредка нарушалось отдельными выстрелами, которыми обменивались заслоны отряда с авангардами врага.
Караван остановился в долине. Люди спешили ставить палатки, вбивали в землю колья, нарубленные в ближайшем лесу.
Часть отряда направилась к видневшемуся вблизи холму, чтобы достать хоть немного провизии. Женщины соседних племен обычно оставляли хлеб прямо на дороге, где должен был пройти караван.
Мужчины разошлись в разные стороны: некоторые подошли к женщинам и детям, другие, образовав кружок около развесистого дерева, либо закуривали, выбивая искру кремнем, либо жевали хлеб с солью и бастик[16], составлявший их дневной рацион.
А когда наступила ночь и дети заснули на коленях у матерей, усталость одолела воинов, и они капитулировали перед всевластным сном. Одни спали, положив под голову винтовку, другие расположились около дерева, прислонившись к нему спиной.
В небе, слегка подернутом легкими облаками, заблестели звезды. Долина погрузилась в мрачное безмолвие, в котором то там, то здесь раздавалось завывание волка в далеком лесу или слышались шаги патрулей.
В палатке командира — тишина. В боях пало много людей. Провизия и боеприпасы были почти на исходе. Казалось, близка катастрофа, казалось, что против отряда выступал не только враг, безжалостно сжигавший все вокруг, но и горы, покрытые снегом, который проваливался под ногами, и холод, и голод, и зловещая тишина… Близилась полночь.
Вдруг в лагере началось странное движение. Пробудившись от сна, воины узнали от суетившихся женщин, что у жены командира отряда начались роды. Как только это известие разнеслось по лагерю, беспокойство и тревога охватили всех женщин. Они с каким-то особенным усердием начали укачивать своих детей. А воины снова собрались возле огромного дерева и закурили.
Свисавшие во все стороны ветви этого дерева создали своеобразный навес. Прикрепив к веткам материю, у дерева устроили шалаш. Оттуда вышла старуха и попросила часового разжечь огонь.
Но где взять топливо? Вокруг не было даже сухой травы. Землю покрывал снег. Сырые, налитые соком ветки не будут гореть. Оставалось одно — разбить приклады и превратить их в топливо.
Около пламени костра, зажженного из полутора десятков сломанных о скалы винтовок, на шерстяном ковре, разостланном на покрытой снегом земле, мучилась в родовых схватках женщина. Раздавались приглушенные стоны, и ночь несла их вглубь долины. Волнение отражалось на суровых лицах воинов.
Прошло два часа, показавшихся вечностью. Языки пламени постепенно затухали, вспыхивая; они посылали свой бледный свет в глубину темного леса, озаряя стволы деревьев, стоявших, подобно колоннам древнего храма, давным-давно всеми покинутого. Люди то громко шумели, то шептались. Всякий раз, когда ветер качал языки пламени из стороны в сторону, тени людей принимали странные, причудливые очертания. Казалось, что все это происходит в заколдованном лесу. И когда огонь почти совсем погас, на шерстяной ковер над заснеженной землей упало нежное тельце, полное жизни. У ребенка вырвался первый крик, которому ответил радостный возглас: «Мальчик!»
С зарей караван тронулся в путь. Он поднялся в горный проход, чтобы через него выйти в долину.
Я не знаю, какое имя дали родившемуся ребенку, но твердо уверен, что это — сын восстания, что он родился в его огне и продолжит дело, начатое отцами.
Перевод Г. Батурина
Был десятый день мая… Евфрат бурлил, и его воды готовы были смыть береговые дамбы. Встревоженные крестьяне различных племен, обитавших между Зи аль-Кяфалем и Куфой, так же как и крестьяне других районов, расположенных по побережью Евфрата, день и ночь дежурили у дамб. Люди были напуганы надвигавшейся опасностью, еще месяц назад казавшейся незначительной.
Дул влажный ветерок, оживляя несчастных, вселяя в них силы, которые были им так необходимы.
Изнуренные тяжелым трудом, едва держась на ногах, крестьяне продолжали упорно бороться со стихией. Они спасали посевы и скот — единственный источник их существования.
В полях — возле крестьянских хижин, построенных из гнилого тростника, циновок и пальмовых листьев, и вдоль берега реки колосилась, радуя глаз, созревающая желтая пшеница. Близилось время жатвы.
Наступило утро. Люди снова принялись за укрепление дамб. Они, как муравьи, рассеялись по берегу, снуя взад и вперед, укрепляя непрочные места, поднося к ним песок, хворост, тростник, циновки, подпорки, веревки и другой материал.
Безжалостно подгоняемые инженерами и своими вождями, они работали без передышки. Немного отдохнуть им удалось лишь в полдень.
Внезапно, как это обычно бывает в Ираке, погода резко изменилась. Налетела буря, солнце скрылось, река взволновалась. Опасность наводнения усилилась, ибо дамбы и так уже сдерживали гораздо больший напор, чем это было рассчитано при их постройке.
На левом берегу реки опасность затопления была значительно более сильной, чем на правом, так как население здесь было малочисленнее, берег ниже, а дамбы хуже.
Вожди племен, и на том и на другом берегу имеющие дома, земли, еще больше, чем крестьяне, были заинтересованы в сохранении дамб. Они ходили среди работающих, то подгоняя, то подбадривая их, то избивая отстающих палками и плетьми…
Перенесемся на правый берег. Наступил вечер.
Перед одним из вождей племени стоял, гордо выпрямившись, исполненный достоинства, присущего кочевым арабам, высокий, смуглый и сильный юноша по имени Баддай аль-Фаиз. Он отличался от своих сверстников тем, что постоянно носил на поясе кинжал с серебряной насечкой. Юношу ударил вождь, как он бил и других. Ударил ли он его за промедление в работе или просто так, без причины, но Баддай не мог перенести этого. Он бросил работу и остановился, непокорный и бунтующий.
Вождь от неожиданности остолбенел. Он не мог отвести от юноши удивленного и возмущенного взгляда. Пораженный его гордостью и достоинством, считая это легкомыслием и высокомерием раба, он думал о том, что Баддай не оставляет своего кинжала с серебряной насечкой даже во время тяжелой работы, что его непокорность возмутительна, что он не смеет возражать против того, что другие переносят униженно.
Вождь хотел ударить его второй раз, но остановился и бросил ему в лицо оскорбление, а это у бедуинских племен считается хуже и унизительнее, чем удар палкой.
— Горе тебе, трус! — сказал он. — Уж не этот ли кинжал с серебряной насечкой дает тебе право задирать нос? И для какой цели ты носишь всегда этот кинжал и ружье, которое ты повесил на куст боярышника? А где же было это оружие в тот день, когда Джассам убил твоего брата Аббаса? Почему ты не отомстил за него, презренный трус?!
Вождь с особым ударением произнес имя «Джассам», усиливая «с» и растягивая «а», и при этом многозначительно указал своей палкой на противоположный берег реки. Потом он саркастически улыбнулся и ушел, прекрасно понимая, что смертельно оскорбил юношу.
Баддай, охваченный страшным душевным волнением и гневом, выслушал эти слова вождя перед большой толпой крестьян, которых он считал ниже себя по достоинству, гордости и умению постоять за себя. От обиды он закусил губу, а потом крикнул душераздирающим голосом:
— Пошел прочь! Я отомщу за смерть брата и смою с себя позор!