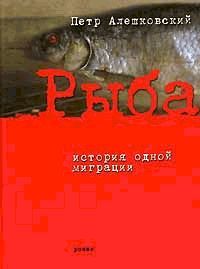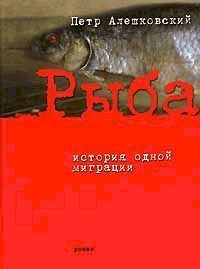– воскресенье. Я мальчишкой по воскресеньям бегал в кирху, был помощником звонаря. Семнадцать километров туда – до Починка, где
Нурмекундское кладбище, семнадцать – назад.
Колокол он успел спрятать в лесу в тридцать втором, когда кирху спалили комсомольцы. Вернувшись из лагеря, нашел, отчистил и хранил.
В девяносто первом первый раз зазвонил. Теперь он звонил ежедневно – не конец службы отмечал, а встречал так каждый новый день.
– Конаковские смеются, при попутном ветре звук до них доносит, а мне все равно. Я еще в лагере загадал: если выживу, буду звонить – такой мне сон приснился.
Колокол был небольшой – два пуда, простой, позеленевший от времени, как древние котлы в пенджикентском музее. Внутри вся поверхность была исписана эстонскими буквами – Юку вырезал их ножом. Он прочитал мне начертанные фамилии, а потом много раз повторял этот список, и я всех запомнила: Янсены, Хурты, Милли, Мяги, Токманы, Кярты,
Рийсманы, Лойки, Треуманы, Лунды, Тарвасы, Пяльсоны, Куммы, Тиннеры,
Манизеры, Неллисы, Мёльзеры, Адамсоны, Вага, Аустеры, Польдманы,
Хаабманы, Сульгманы, Кивимайманы.
– Кого знал, всех записал, колокол имена раззвонит.
По верху, по самому оплечью, шли буквы – кольцо эстонских и кольцо русских.
– Это – азбуки. Я подумал: мне не сказать – колокол сам все расскажет. В Хаапсалу, откуда был родом наш пастор, на колоколах всегда писали имена, так что это не я придумал, я только азбуки добавил, эстонскую и русскую, на всякий случай, поняла?
Я кивнула головой. Он чему-то улыбался.
– Юку, чему улыбаешься?
– Что печалиться? У меня теперь ты появилась. Оставлю тебе дом в наследство, будешь жить?
– Не знаю, не знаю, правда.
– Ладно, не твое – не надо. Человек должен своим любимым трудом жить, мне отсюда никуда. Здесь моя земля – Манизерова. Я ее знаю.
– Какая твоя, колхозная.
– Колхозная – не колхозная – моя. Самая ведь пакость, пари-блямба, что они землю забрали, поиздевались над ней и бросили. Если б у людей была своя земля, кто бы ее бросил? Продали б – это другое, был бы владелец. Они и пьют оттого, что не за что умирать, эстонцы ехали на землю, получили ее и потеряли, да…
– Но ведь уехали, почти все уехали.
– Если нет земли, родиной становится язык, он их и утянул.
Правильно, что уехали. Лойк Неле уезжала в Эстонию в девяносто первом, с последними нурмекундцами. Как меня с собой звала – не поехал: здесь родился, здесь и пригодился. На эстонском я только с колоколом разговариваю. Вот с тобой говорю, а думаю по-своему.
– Юку, ты говоришь правильно и красиво.
– Э… как сказать, на чужом языке говорить, что писать любимой письмо со словарем, я из Речлага пытался Илзе писать, бросил – пустая трата времени, по-эстонски писать не разрешали, а ты говоришь
– красиво, обмануть меня хочешь?
– Что ты, Юку, и в мыслях нет.
– Ладно, поверю, верить всегда лучше, чем не верить.
Жили мы с ним душа в душу. Мне и с Лейдой было хорошо, но с Юку
Манизером было по-особенному, я его полюбила.
Мы, космодемьянские русские, татары – перекати-поле, занесенные советской историей в Пенджикент, всегда с завистью смотрели на таджиков. Люди говорили: “У них есть земля”. В Таджикистане, как и везде, были колхозы, но каждый таджик знал земли отцов, с гордостью о них рассказывал, присматривал за ними, как присматривают за кладбищенским участком. Директора государственных магазинов, парикмахерских, лавок, хлебопекарен всегда с гордостью говорили:
“Мое заведение”, платили исправно наверх отступные, но перевести их на другое место было нельзя – места покупались, и никакой суд просто так не мог их отнять. В детстве я не понимала, чему завидуют наши.
Юку меня просветил, он помнил.
Здесь, в полях-лесах, занесенные снегом, стояли его строенья: амбар, конюшенный сарай, птичник, хлев, сенной сарай, баня, жилая изба.
Здесь было тихо и спокойно, я ухаживала за Юку, а он за мной, и иногда крамольная мысль западала в голову: был бы он моложе лет на сорок, за такого мужчину я бы с радостью вышла замуж.
О будущем не думалось – о своих в Волочке, в Харабали я как-то забыла, вспоминала лишь иногда, но поклялась: пройдет зима, буду решать. Я чистила деревянной лопатой узенькие дорожки вокруг дома, смотрела вокруг и понимала: все эти сугробы – не мой городской участок, разгрести их жизни не хватит.
Зима выдалась снежная, часто вьюга мела сутками, ветер обрывал провода, и мы неделями сидели без электричества. Жгли керосиновую лампу. Я научилась сучить шерстяную нить. Дед стриг овец, собирал шерсть в большие мешки. Я мыла грязную, слежавшуюся шерсть, разбирала ее, удаляя колтуны, сушила на веревке над печкой. Затем чесала редким гребешком, потом более частым. Полученную легкую и чистую кудель прикрепляла кованой старинной спицей к головке старой прялки. Сидела вечера за веретеном, отщипывала непрочную прядку от кудели, тянула, накручивая нить на веретено. После недолгой практики нить стала получаться у меня ровной, Юку меня похвалил. Бранного слова я от него ни разу не слышала. Когда что-то у него не получалась и он выходил из себя, произносил с выдохом: “Ой, пари-блямба!”
– Смешно ты, Юку, ругаешься.
– Русские староверы из Скоморохова научили: нельзя рот матом поганить, Боженька может и язычок оттарабенькать.
Шерстяную нитку я скатала в клубки, связала из нее шерстяные носки – себе и Юку. Он нашел в кладовке старинное женское белье – Илзин сундук сохранили тут к его приходу, и я щеголяла в кружевных шелковых трусах и комбинациях, может, и не слишком привычных сегодня, но очень изящных; когда-то их заказывала себе в модной лавке еще Илзина мать. Женские рубахи были похожи на больничное белье – с вырезом на груди, со стоячим, расшитым крестиками воротником, одевались через голову, мы в Душанбе называли этот фасон
“ратуйте, православные”. Рубахи были удобными и теплыми, юбки, ситцевые и клетчатые шерстяные, – я отстирала от нафталина, проветрила на улице и с шиком носила. По дому мы ходили в обрезанных валенках или в поршнях – сшитых Юку из одного куска плотной кожи тапочках, завязывающихся у голени крепкой веревочкой.
– Я в лагере был первый специалист по поршням, – сказал он с гордостью, вручая мне эти удобные кожаные лапти.
Вечерами мы сидели друг против друга, каждый занимался своим делом.
Юку рассказывал. В этой жизни, кроме просто труда, был еще труд непосильный, а в редкие минуты отдыха – песни, веселая и бравурная музыка духового оркестра, самогон в меру, а порой и не в меру, но не выбивающий из седла, а только подстегивающий к новой работе.
– Праздники мы гуляли весело, но и работали нескучно. Работать всегда интересно – ты сама видишь.
Со стены, со старой фотографии, глядели на меня усатые дядьки в нарядных сюртуках – собрание нурмекундского духового оркестра: отец
Юку Мартин Манизер сидел в первом ряду с прижатой к груди большой трубой. Рядом с ним – закадычный друг Пауль Токман, отец Илзы, с валторной. Этот и сюртук носил побогаче, и цепочка от часов с брелоками пряталась в специальном кармашке – Токман был мельником, отсюда и шелковое нижнее белье, которое, кажется, кроме меня, никто и не надевал – хранили на особый случай. Фотография выцвела от времени, как глаза у Юку. Представить, что эти нарядные, серьезные люди работали в поле и в лесу дотемна, было трудно. Такую отвагу и чувство собственного достоинства я встречала только в глазах памирцев, приезжавших иногда на пенджикентский базар, но памирцы – азиатские горцы, у них сложные отношения с таджиками и узбеками, они всегда существовали сами по себе и оттого, думала я в детстве, так хорохорились. Юку не врал – поселенцы с фотографии упорно и много работали и все же находили время, чтоб бережно перебрать огрубевшими руками кнопки аккордеона, лихо пробежаться пальцами по клавишам пианино или по деревянному телу флейты. Такая жизнь была мне по душе.
В начале апреля снег почти сошел. На телеге я ездила в Карманово. В этой пьяной деревне старалась не задерживаться – люди здесь жили грязные, нечесаные, с отекшими от пьянки глазами, одетые в рванье, постоянно матерящиеся. Я покупала хлеб, получала за Юку пенсию, возвращалась назад: пять километров полем, через лес и снова по полю к знакомому и родному Манизерову жилью.
Двенадцатого апреля я возвращалась с хлебом домой, подъехала к самому порогу, но Юку не вышел меня встречать. Почуяв неладное, не распрягая лошадь, вбежала в дом. Он лежал на своей кровати лицом к стене.
– Юку!
Он повернул лицо – скорбное, никогда таким его не видела.
– Что случилось?
– Колокол!
Утром Юку еще звонил, не чуя беды. Отзвонив, он пошел в хлев, а когда вернулся, заметил, что под перекладиной пусто. Уши постепенно расшатали железную скобу. Колокол упал, и, как назло, ударился плечом о наковальню, которую Юку притащил сюда недели две назад и забыл. По всей юбке расползлась трещина. Дед подвесил колокол на звонницу, но голос исчез, звук выходил фальшивый и очень быстро затихал.