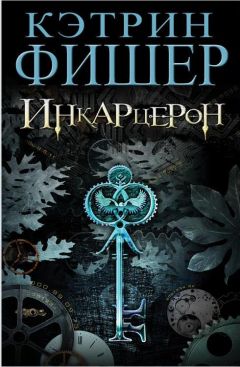Из недавней поездки в Москву мистер Пергамент вернулся, преисполненный надежды на радикальный поворот в деле Гена Стратова…
На этом я прервал чтение «Форбса» и помчался в аэропорт. Мимоходом должен сказать, что помчался на такси, хотя перед воротами, как всегда, стоял «Кангу». Можно было запарковать свой вуатюр возле аэропорта на те три дня, что запланированы были для путешествия, однако в голову почему-то пришла мысль, что нельзя оставить Ника Оризона без транспортного средства, если оно тому вдруг ни с того ни с сего понадобится. За прошедшую после нашей последней встречи неделю он, кажется, по крайней мере один раз воспользовался моим приглашением. Во всяком случае, однажды, когда я допоздна засиделся за компьютером, бесконечный шум Резервуара был на секунду покрыт рычком заводящегося мотора. Выйдя на террасу, я увидел, что улица пуста. Ну что ж, подростку, который выглядит как юноша, иногда среди ночи может все-таки понадобиться т. с. Утром «Кангу» стоял на прежнем месте.
В аэропорту я все-таки догадался, перед тем как купить билет, позвонить Пергаменту, или, как в Америке его называли, Перджаменту. Я с ним познакомился тому лет десять или пятнадцать, ну, в общем, кто считает. Он был активистом одной из бесчисленных американских бук-группс, в которых на досуге читают и обсуждают новые книги. Это было еще в Вашингтоне. Однажды по телефону он пригласил меня выступить на их вечеринке, посвященной переводу моего романа, который критика называла ни больше ни меньше как «Войной и миром ХХ века». «А вы случайно не родственник ли известного адвоката Перджамента?» — спросил я. «Нет– нет, что вы! — воскликнул он. — Я не родственник, я просто сам и есть адвокат Перджамент». С тех пор мы встречались раз в два-три года, то на каком-нибудь литприеме, то на каких-нибудь русских слушаньях в конгрессе, а однажды, уже в Нью-Йорке, нос к носу столкнулись у витрины «Даблдей». Он всякий раз старался познакомить меня с какими-нибудь шишками: то с чинами из Белого дома, то с командиром линкора «Нью-Джерси». «Базз, эти люди могут тебе пригодиться», — говорил он. Никогда этого не случилось, но сам Стив мне определенно нравился. Мог, например, совершенно самозабвенно расхохотаться посреди серьезной беседы.
Из аэропорта JFK я поехал прямо к нему на улицу Амстердам. За два года моего отсутствия Нью-Йорк мало изменился: не постарел, не помолодел, слегка провис в средне-преклонном возрасте, в марафонском смысле порядочно проэфиопился, курит хором, собираясь на перекрестках, и даже не прячет цигарки в рукав, по-прежнему считает себя столицей мира, хоть и забывает завязать шнурки на ботинках. Подъезжая к дому, я стал слегка волноваться. С чем у меня связан этот двадцатиэтажный пердила, кроме стиля ар-деко? Кажется, принимали здесь какого-то «флагмана перестройки», то ли Губенко, то ли Табаченко, то ли и того и другого, но в обратном порядке? А вдруг Пергамент давно переехал из этого дома? Нет-нет, этого не может быть, ведь я же говорил с ним по телефону. Что ж из этого, может быть, телефон остался тем же, а тело Пергамента куда-то переехало? Такое случается, и нередко, особенно у адвокатов. Особенно у тех из них, кто стал сторонником русских миллиардеров. Теперь не дозвонишься, небось успел уже изменить номер, чтобы увильнуть от встречи…
Оказалось, что все треволнения не стоят и десятки: Пергамент живет все в том же доме, который запомнился, все на том же 18-м этаже, все в той же скромной пятикомнатной квартиренции, заставленной антикварным хламом. Дверь открывает все тот же слуга, выходец из Бирмы, которая сейчас как-то иначе называется, вроде бы Мьянма. Радостно умиляется при виде гостя: «Очен сильно счастлив, глядя на этот господин Окселотл!» Оказывается, узнал! Я его всегда, то есть раза три за десять лет, на выходе угощал сотней, и вот он запомнил щедрого господина с поистине бирманской фамилией. Появляется хозяин в огромном шиншилловом халате. Вот каков этот юридический гений — квартиру не меняет, а на драгоценные меха не скупится! Мы тонем задами в продавленных креслах перед камином, через который вползает в дом гудзонская сырость.
«Ты ведь, кажется, куда-то уехал из Америки, Базз, так, что ли? В Калифорнии, что ли, теперь обретаешься?»
Мой ответ по поводу Калифорнии он пропустил мимо ушей, потому что сразу после вопроса сообщил мне, что часто бывает теперь в Москве, ведет там очень серьезное и важное для российской экономики и в целом для всего общества дело.
«Вот как раз по этому делу я и хочу с тобой поговорить, Стив, — сказал я. Он, кажется, и эту мою фразу хотел пропустить мимо ушей и начал как-то издалека подходить к российской ситуации, но тут я его прервал и уточнил: — Видишь ли, я сейчас развиваю проект о Стратовых и о редкоземельных металлах и хотел тебе задать несколько вопросов, конечно, вполне конфиденциальных, но странным образом и актуальных. Ну, в общем».
Он тут замолчал, что заставило и меня замолчать. Бирманец прикатил столик с дринками и горячим кофе. Мы еще помолчали, пока разбирались, кому что. Потом он спросил, означает ли этот проект, что я тоже у них на payroll? У кого это у них? Ну у Стратовых, то есть, в общем-то, у Леди Эшки. А что это значит — тоже? Ну как все, кто борется за Гена, как твой покорный слуга, например, ну как, скажем, Боб Сэдло из «Форбса». Нет-нет, я ничего от них не получаю. Думаю, что они и не знают ничего о моем проекте. Мне просто интересно, как будут действовать разные силы нашего общества.
«Нашего — это значит какого? Американского?» Перджамент теперь внимательно смотрел на меня поверх стакана со своим странноватым желто-зеленым соком.
«С какой стати американского? Нашего — это значит российского».
«Ну хорошо, задавай теперь свои актуально-конфиденциальные вопросы», — пригласил он.
«Вопрос, собственно говоря, только один. В статье Боба Сэдло ты сказал, что не будешь удивлен, если в деле Стратова произойдет какая-то кардинальная перемена. Чего можно ждать?»
Он стал говорить о том, что в России еще не совсем окончательно сложилось авторитарное общество. Существуют бизнес и частная собственность. Существуют остатки независимой прессы. Даже телевидение еще не совсем задавлено. Существует институт политологов и политтехнологов, и каждый из них жаждет высказать свое особое мнение. Существует гильдия адвокатов, в конце концов. Действия всех этих групп могут привести к каким-нибудь непредсказуемым кардинальным переменам.
Я понял, что ничего кардинального он мне не скажет. В принципе, говорить с адвокатом о его подзащитном — это все равно что интервьюировать дипломата о каких-нибудь похабных действиях его страны; ничего вразумительного никогда от них не дождешься.
«Еще вопросы есть?» — спросил он.
«Нет, вопросов больше нет, а вот так, если по-человечески, Стив… Ты встречаешься с Геном, скажи, в каком он сейчас пребывает состоянии?»
Он несколько минут молчал, потом встал, походил по комнате, сбивая своими шиншиллами маленькие статуэтки со столиков, потом сбросил халат и оказался в шикарнейших подтяжках. «Он очень подавлен. Если хочешь знать, он просто на пределе, и в этом заключается самая главная проблема».
«Спасибо, Стив», — сказал я и тоже встал. Мы смотрели друг на друга из разных углов комнаты.
«Прости, Базз, — усмехнулся он. — Я немного подзабыл, что ты романист. Теперь я понял, что ты просто-напросто затеял новый роман. Наверное, что-то вроде той штуки, из-за которой на тебя разозлилась вся Америка?»
«Вся Америка? На меня? Разозлилась? Да кому я нужен в этой Америке?»
«Ты здесь нужен как раз тем, кто на тебя разозлился».
«Да за что, on Earths, они на меня разозлились?»
«За то, что пишешь на свой манер, Базз, как-то не прогибаешься. Как-то не объясняешь публике, о чем пишешь, заставляешь догадываться. А она любит все сразу понимать, любит жевать разжеванное. А ты плетешь свою метафору и не очень заботишься о публике. Я помню, как ты говорил, что совсем не обязательно всё всем понимать. Вот за это они и злятся на тебя».
«Да ведь я пишу романы самовыражения, Стив».
«А публика не любит такого эгоизма, Базз. Она любит, чтобы ей рассказывали захватывающие истории. Вот если ты пишешь роман про Гена Страто, так ты должен о нем рассказывать, а не о себе. Это понятно?»
Я засмеялся. «Понятно, но не совсем, то есть так, как надо».
Он подошел к своему компьютеру и несколько раз щелкнул мышкой. На плазменном мониторе стали один за другим появляться портреты молодого человека с седыми висками. Странным образом именно эта седина на висках и придавала ему излишней молодости. Тому же способствовали и запавшие щеки, а вместе с ними и лиловатость глазниц. Мелькнувшая на одном из портретов улыбка почему-то ставила эту молодость под знак вопроса.
«Это Ген Страто, — сказал Перджамент. — Неделю назад в тюрьме я исподтишка щелкал его на своей мини-дигиталке».