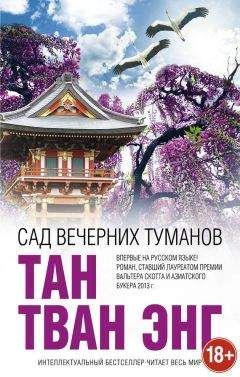Он покачал головой и указал на безоблачное небо:
– Я заимствую лунный свет для этого путешествия в миллион миль, – произнес он.
Однажды утром я стояла около площадки для стрельбы из лука и дожидалась, пока Аритомо закончит упражняться. Когда он поставил свой лук на место, я вышла вперед:
– Мне хотелось бы попробовать.
Я заметила – в его взгляде просквозило недоверие, а может быть, и нет: реакцию Аритомо часто было трудно уловить.
– Нельзя делать это без надлежащей одежды, – наконец сумел он выдавить из себя.
– «Надлежащей одежды»? А у вас разве не валяется где-нибудь запасной костюм? Эмили подскажет, кто сумеет подогнать его по моей фигуре.
– Почему вам захотелось постичь кюдо[156]?
– Разве не сказано в «Сакутей-ки»: для того чтобы стать искусным садовником, необходимо овладеть и еще каким-нибудь искусством?
Он секунду-другую поразмыслил над моим ответом.
– Может, у меня где-то и есть старый костюм лучника.
На стрельбище я появилась снова несколько дней спустя, неся в сумке полный комплект надлежащей одежды для кюдо. Прежде чем подняться на площадку для стрельбы, я сняла туфли и поставила их на самую нижнюю ступеньку. В уголке, отгороженном занавеской, переоделась в белую куртку из тонкого хлопка и черные хакама – свободные складчатые брюки. Эмили сама ушила костюм, так что сидел он на мне хорошо.
Из раздевалки я вышла, держа в руках длинные спутанные завязки хакама и недоуменно посмотрела на Аритомо. Он показал мне, как обвязывать их на поясе целой чередой петель и узлов. Потом протянул мне странного вида кожаную перчатку, похожую на ту, которую сам носил во время стрельб:
– Югаке нужно носить на той руке, которая у вас действует лучше.
Я никак не могла справиться с тремя кожаными частями перчатки, всякими тесемками и перемычками… и в конце концов вынуждена была попросить его надеть мне ее.
Мы опустились на колени на татами и поклонились друг другу. Я в точности повторяла каждое его движение. Для меня эти церемонии были пыткой: их омрачали воспоминания о времени, когда приходилось выполнять все с рабской покорностью – так полагалось вести себя с тюремщиками.
Аритомо выбрал из стойки лук и протянул мне его на раскрытых ладонях. Лук, сделанный из прессованного бамбука и кипарисового дерева, оказался выше моей головы, когда я поставила его одним концом на пол. Вытянув тетиву на полную изготовку к стрельбе, я боролась с нежеланием лука согнуться, подчиняясь моей воле.
– Не следует применять грубую силу. Сила исходит не от ваших рук, а от земли, она поднимается по вашим ногам, проходит по бедрам, попадает в грудь и – в сердце, – поучал Аритомо. – Дышите правильно. Используйте свой хара, свой живот. Каждый вдох отправляйте глубоко в себя. Почувствуйте, как раздается все ваше тело, когда вы дышите: именно тогда мы и живем, в мгновения между вдохом и выдохом.
Я сделала, как было велено, несколько раз задохнулась, прежде чем добилась некоторого подобия того, чего он от меня требовал. Появилось ощущение, будто я тону в воздухе.
Аритомо приладил стрелу к тетиве лука (на каждую попытку давалось по две стрелы, вторую он держал между пальцев правой руки, пока натягивал лук). Тетиву он натягивал с легкостью, вызывавшей во мне зависть: теперь-то я знала, как трудно это дается. Оперенный конец стрелы был опущен низко, к самому его уху, словно бы лучник прислушивался к дрожанию перьев. Все окружавшее нас сошлось в недвижимом ожидании: капелька росы, зависшая на краешке листа. Он выпустил стрелу, и она попала в центр мишени. Прежде чем расслабить руки, он еще секунду-другую сохранял прежнее положение, лук опустился с невесомостью месяца, прячущегося за горы. Повторив все сначала, Аритомо выстрелил второй раз – и опять точно в центр мишени. Я дернула тетиву, но не сумела воспроизвести услышанный мною звук.
– Цурунэ, – произнес он, глянув на мои руки, – песнь тетивы лука.
– Для этого даже название есть?
– У всего прекрасного должно быть название, вы согласны? – ответил он. – Считается, что о способностях кюдо-ка, стрелка из лука, можно судить по звучанию его тетивы после выстрела. Чем чище цурунэ, тем выше мастерство лучника.
На исходе часа упражнений мышцы рук, плеч и живота у меня подергивались и ныли, но я заметила, что сам Аритомо сжал пальцы, а потом и закряхтел от боли.
– Артрит? – спросила. Я еще раньше заметила небольшие опухоли на костяшках его пальцев.
– Мой иглотерапевт приписывает это сырости воздуха.
– Значит, вам не годится жить здесь.
– Вот и врач говорит то же самое.
Я прошла за ним в задние комнаты дома, чтобы переодеться в рабочую одежду. Потом через всю западную часть сада мы направились туда, где земля уже начинала бугриться предгорьем. Почти у самой стены по периметру сада Аритомо свернул с дорожки и продолжил подниматься вверх. Вскоре путь закончился у скалистой площадки футов в десять в высоту[157] и столько же в ширину, возле основания которой вились листья папоротника.
– Я нашел это, когда расчищал землю, – сказал Аритомо.
Я подумала: уж не наткнулись ли мы на священный камень, оставленный тут каким-нибудь племенем коренных жителей тропических лесов, племенем, которое за века до нас отправилось в дальний переход к вымиранию. Содержавшееся в камне железо капельками крови проступало на скалистой поверхности. В утреннем свете линии ржавчины заходили одна на другую и рдели, как румянец на морщинистом лице. Я протянула руку и провела ею по неведомым материкам и безымянным островам, которые лишайник, как на карте, обозначил на изъеденной поверхности камня.
– Каменный Атлас, – тихо выговорил Аритомо.
Я посмотрела на него, этого собирателя древних карт.
Едва день перевалил за половину, я закончила работу и собралась вернуться к себе в бунгало. Когда проходила мимо незаполненного пруда, Аритомо проверял его глиняное дно.
– Нам скоро придется потрудиться, чтобы заполнить пруд, – сказал он, поднимая на меня взгляд.
Я пошла дальше своей дорогой, но он окликнул меня:
– Вы только время теряете, ходя туда-сюда на обед. Ешьте здесь, со мной.
Заметив мою нерешительность, он добавил:
– А Чон хороший повар, уверяю вас.
– Хорошо.
Уже обозначилась форма крыши павильона. Плотник Махмуд с сыном Ризалом раскатывали на траве свои коврики возле штабеля досок. Бок о бок отец с сыном преклонили колени, чтобы помолиться, простершись к западу.
– Порой я думаю: а ну, как они возьмут да и улетят на своих ковриках-самолетиках, когда павильон будет завершен, – сказал Аритомо.
Потом глянул на меня:
– Подумайте о названии и для него… для павильона.
Застигнутая врасплох, я никак не могла ничего придумать. Уставилась на полузаконченное сооружение и лихорадочно соображала. Наконец произнесла:
– Небесный Чертог.
Аритомо поморщился, будто я у него под носом каким-то гнильем помахала.
– Фразы, вроде этой, срываются у невежественных европейцев, когда они представляют себе… «этот Восток».
– На самом деле это из стихотворения Шелли «Облако».
– Правда? Никогда не слышал.
– Это было одно из любимых стихотворений Юн Хонг. – Я смежила веки и, немного выждав, раскрыла глаза:
Порожденье Земли и Воды,
Я к кормящей груди Неба взлетаю,
Воспаряю к ней из пор океана и его берегов.
В Небесах я меняюсь и таю,
Только смерти мне нет вовеки веков.
Вспомнив, как часто произносила эти строки Юн Хонг, я почувствовала, будто краду у нее то, что было сокровищем для нее.
– Не услышал ничего про чертог, – сказал Аритомо.
Ведь когда дождь пройдет и начисто смоет
Всё, до пятнышка, с голубого Чертога Небес,
Когда купол лазурный Землю покроет,
Ветров полный и солнца лучей вперекрест,
Про себя над своим кенотафом смеюсь
И из недр дождевых выхожу, как из чрева дитя,
Будто призрак из гроба, дымкой белой взовьюсь.
И опять в белых пятнах небес синева.
Голос мой утих, затерявшись среди деревьев. Возле наполовину законченного павильона плотник с сыном в последний раз коснулись головами земли и принялись сворачивать свои коврики.
– Небесный Чертог… – казалось, выбранное мною название вызвало у Аритомо еще больше сомнений, чем прежде. – Пойдемте, – сказал он. – Обед, должно быть, уже готов.
Прежде чем мы сели за стол, он провел меня по своему жилищу, выстроенному в стиле традиционного японского жилья с широкой верандой (Аритомо называл ее энгава), охватывавшей дом с фронтона и по бокам. Комната, где он принимал гостей, находилась в передней части дома. Спальни располагались в восточном крыле, а кабинет хозяина – в западном. В центре – дворик с садом камней. Все эти разные части соединялись крытыми сверху, но открытыми с боков дорожками. Изгибы и повороты создавали представление, будто дом больше, чем на самом деле. Тот же прием, который Аритомо использовал, разбивая свой сад. Все комнаты выходили на веранду. Всего одну уступку горному климату сделал хозяин: раздвижные двери были застеклены. Можно было, сидя в домашнем тепле, любоваться садом даже в самые холодные дни. Скудость украшения усиливала мерцающую пустоту полов из кедра. В гостиной стояла складная ширма, расписанная тюльпанами, их было целое поле, крытые золотом цветы мерцали в тени. В одном углу бледно светилось известняковое изваяние Будды седьмого века: торс с отбитыми руками и головой.