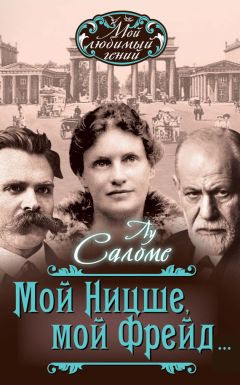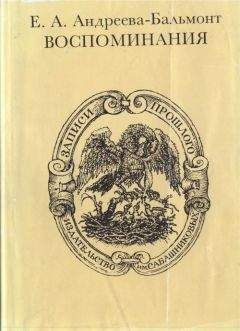Nach Mittag Так мы и сидели, все на единственной лавочке: с одного края я, а с другого он, беспрестанно ловя возможность подмигнуть друг другу. Я говорила с Миросей, адресуя все слова ему, и получала шикарные ответы. В конце концов, мы так распалили друг друга этой тончайшей паутиной открытого флирта, что я первая потеряла над собой контроль и перед тем, как папаша успел мне это запретить – помчалась прямо под проливной дождь, шлепая по пузырчатым лужам. В конце концов, я удачно поскользнулась, и, являя собой зрелище довольно безумное (судя по выражению Мирославиного лица), по всем расчетам должна была упасть в объятия Гепарда, и упала – но когда открыла посоловевшие глаза, на меня смотрело темное и угрюмое лицо папаши, а порочным алым полотенцем оказалась наша пляжная сумка, заштопанная леской и с нефункционирующим замком. Через пару минут мы в обычном молчании шествовали по мокрому санаторию обратно на Маяк. Разговаривать со мной после ТАКОГО, разумеется, никто не собирался.
После обеда, развлекшего меня зимними мотивами белесой и редкостно невкусной рисовой каши, мы, после положенной сиестой релаксации, двинулись на пляж.
Настроение заметно переменилось. Я прямо-таки чувствовала курортную (если вы поняли) обнаженность ее безмужевой спины. Так бы ежилась и я, окажись на невозможную неделю в Имрае без отца. Мы гуляли теперь только вместе, оставляя Маньку с дедушкой.
Мирося шла, немного прижимаясь ко мне, так и норовя шмыгнуть со всей шустростью, позволенной ее комплекцией, мне под руку. Она напоминала мне молодого хищного зверька, впервые вышедшего на охоту со старшими: настороженным и лукавым взглядом она стреляла в прохаживающуюся курортную толпу.
После отъезда мужа она тут же перестала горбиться, сделалась намного приветливее (во всяком случае по отношению ко мне). Мы гуляли по бетонной набережной, мило и по-женски болтая, то и дело смущенно и кокетливо поглядывая на мимо проходящих. Я была откровенно поражена: никогда в жизни я не встречала человека, более женственного и хрупкого, чем она. Мирослава была женщиной с ног до головы. Как трогательно она реагировала на свою самостоятельность! Постепенно приобщалась к открывшемуся миру, одновременно желая и пугаясь вникнуть в густую, порочную атмосферу летней Имраи.
Она воспринимала меня, как и все – почти четырнадцатилетняя девочка, у которой выросли ноги и грудь, возраст, когда, собственно, и появляются первые чувства, о которых она мне рассказывала. На вопрос, есть ли у меня кто-то в Киеве, я ответила утвердительно и необычайно правдиво описала всю картину тонкорукой невинности, меня там ждущей. Мира поняла и удивилась, что я на данный момент никого не люблю. Индиговым намеком было сказано, что она сильно заблуждается.
Так мы дошли до своих пляжей, миновали лифт …и – навстречу нам (сестре пока невидимый) шел Альхен. Легко вскинув на плечо, он нес деревянный самурайский меч, в темных очках горело по солнцу, а то, что прикрывали черные узкие плавки, казалось еще более внушительным, чем когда-либо раньше. Между слов я улыбалась ему, пока расстояние между нами не сократилось до минимума, потом внезапно Гепард развернулся и удалился к «соборику», явно поджидая нас у первого пирса. Дальше пляжей не было, и пройти мимо мы не смогли бы.
Но тут сестрица подняла голову с «дулькой» и, увидев почти перед собой маняще улыбающегося нескромного мужчину, вцепилась мне в руку и, круто развернувшись, отчеканила:
– Так, а теперь обратно , – и, тихонько улыбаясь, повела меня прямехонько к соскучившемуся родителю.
А чуть позже начался дождь, и единственными ретировавшимися под лифтовый козырек оказались мы и Альхен с Верой и Танькой. Все остальные пляжники ринулись по домам.
Tag Einundzwanzig (день двадцать первый)
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной.
Начался этот роковой день так же, как и двадцать предыдущих: когда мы спустились на пляж, их еще не было. Не было и черноволосой Светы, подруги балетной Алины, которая в медитативном одиночестве, ничуть меня не радующем, восседала в своей стильной юбке на родных сдвинутых лежаках. До нашего ухода так никто и не объявился, но по аналогичному с бутербродным закону, как раз, когда уже одетые и злые мы шли к лифту, нам навстречу выкатались Вера с Танькой. Единственным утешением было то, что Альхена с ними не оказалось. – Мы с ним сегодня, знаешь ли, разговаривали часа два, пока катер ждали, – медленно говорила сестра. – И мне кажется, что ты мне сказала неправду. Такого, в принципе, быть не может. – Она почти испуганно посмотрела на меня, но я никаких признаков неприязни не выказывала. Решила довести мысль до конца: – Это очень умный, начитанный, воспитанный человек. Безусловно, необычайно интересный, но не… в общем, ты поняла. Хотя, знаешь, у меня в твоем возрасте или чуть постарше тоже фантазии были. такие …
Мирославы и Машки с нами этим утром не было. Часов в семь утра разыгралась настоящая баталия, когда они, наслаждаясь безвалентиновой свободой, решили отправиться в Алупку и очень хотели взять меня и без папаши. Последний же, сами понимаете, тут же дал знать, какая Алупка мне нужна на самом деле. Очень флегматично я восприняла непуск и, огрызнувшись лишь пару раз, отправилась на свою утреннюю прогулку, где прекрасно пообщалась с солнечным Максом. Звал ловить крабов. Очень долго не мог понять, откуда папаша имеет силы не пускать или даже не разрешать мне что-либо делать, и каким это гипнотическим образом я его к тому же еще и беспрекословно слушаюсь. C'est la vie.
После принятия пищи и горы помытых тарелок я села на кухонный стол полистать курортную газету, и тут же позвонили в дверь. Звонили довольно часто, и я уже изготовила замечательную формулировку, извещающую Тетю Надю, что Тети Гали дома нету. Тетей Надей оказалась растрепанная, до крайности возбужденная Манька, в одном носке и в съехавшей набок парадно-выходной майке.
– Дедушки нет? – заговорщицки сверкнув глазами, прошептала она.
Я недоверчиво попятилась во тьму коридора.
– А что стряслось?
– Наклонись, сказать кое-чего надо!
Через несколько шепелявый, густой и сбивчивый шепот я поняла, что по дороге на пристань они встретили «Этого… того самого, твоего друга, загорелого, лысого, с рюкзаком». Они с мамой очень долго разговаривали, а ей он подарил – во! Шоколадку. В подтверждение мне была предъявлена сплющенная фиолетовая бумажка, аж до сих пор хранящая альхеновый запах пряного лакомства.
Потом ребенок умчался, оставляя меня в счастливом оцепенении, с пряно-гепардовским ароматом, щекочущим нюх. Обидно, очень обидно, что меня тогда к папаше не пустили…
«Тетя Надя», между тем, опять позвонила, и в прямоугольнике белого света стояла теперь сама Мирослава и немедленно затребовала меня к себе в гости. Пришлось не только разбудить релаксирующего сатрапа, но и потратить немало времени, чтобы убедить его отпустить меня саму к сестре в гости. Он чертыхался по-английски и по-русски, орал, что когда же мы, такие-рассякие, дадим ему нормально отдохнуть, и вставать и идти к Мирославе ему сейчас хочется меньше всего на свете. Разрешить же мне самой спуститься вниз семь ступенек, обогнуть дом, войти в их подъезд и подняться по их семи ступенькам и очутиться у сестры на кухне было равносильно разрешению паломничества на Валаам.
Приложив немалые усилия, мы вдвоем, в конце концов, добились плюющегося и злого «да делайте, что хотите!!» и, окрыленные, убрались восвояси.
– Слушай, это он всегда такой? – осторожно спросила сестра, когда хлопнувшая дверь и коридорная тьма остались позади.
Я пожала плечами, пытаясь припомнить, когда это он НЕ такой.
Кухня тети Раи была поскромнее окитайченного великолепия, возведенного Цехоцкими. Через открытую балконную дверь со снопом света мягко втекали запахи миндаля и флотской кухни.
– Садись, садись поудобнее. Я не папаша. – Она резко подалась вперед, почти соприкоснувшись с моим лицом. – Расслабься, я не буду тебя ругать.
С грохотом поставила передо мной керамическую миску, доверху наполненную ароматным сырным печеньем. Сотворенный из пряных ароматов Альхен, как джинн, начал подыматься из гущи печенья, извиваясь в селеномамбическом танце.
– Бери сколько хочешь. Сядь поудобнее. Что же ты прямо как на допросе! Совсем тебя он замучил. Да бери не одно, а сколько хочешь! Знаешь, кого мы встретили по дороге в Алупку?
Да, да, я, безусловно, знаю и очень счастлива, что разговор вышел такой долгий и наверняка очень приятный. Ребенок… ребенок… какая же я запуганная! Она пыталась говорить с отцом. Да, да, вечером, вчера. Но это утопия. Это безнадежно. Нет, нет, совсем нет. Отец пытается воскресить миф о благонравных дочерях, он настолько повяз в этих мемуарах предреволюционной поры.. эти художники, родившиеся еще при Александре III. Знаю ли я… да, наверное, уж знаю, что он всерьез надеется вырастить эдакую благородную девицу. Да, да, ведь зачем, спрашивается, я учу французский, немецкий и английский вот уже совсем выучила? Разумеется, с одной стороны, это все очень хорошо, но надо ведь знать меру! Надо быть хоть немного реалистом, а если и не быть, то, по крайней мере, не приобщать к этому нежелающих, с такой ломкой, да, да, britle психикой, как у меня. Она открыла глаза. Она в ужасе. Знала бы я, как это все выглядит со стороны! Какое отрешенное и страшное у меня лицо, когда я гуляю по пляжу! И папаша всегда рядом! Не скажу ли я, а вот, пардон, в сортир на пляже, я тоже под конвоем хожу?