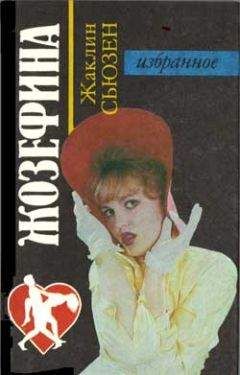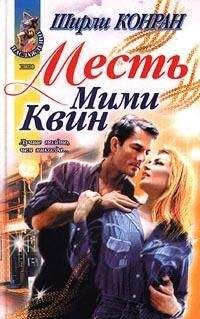Не подлый, но любопытный. Я хотел бы понять. Не поворачиваясь к ней, все еще злясь на свои собственные эмоции, я спрашиваю помимо воли нежным тоном:
— Зачем все это, Стефани?
Ответа нет. Только всхлип. Я бросаю взгляд, стараясь, чтобы он не попал в опасную зону. Низко наклонив голову, застыв в своей гротескной позе соблазнительницы, которой не удался ее фокус, она плачет. Внезапно ее ошеломительные ухищрения превращаются всего-навсего в уловки одетой для маскарада маленькой девочки. Она — несовершеннолетняя пленница, брошенная на помост невольничьего рынка, ее бедное слишком бледное тело выставлено напоказ, и им пренебрегли… Меня охватывает волна жалости. Я кладу руку ей на голову. Плач превращается в рыдания. И представьте себе, жалость, святая жалость, да, пробуждает во мне внезапную и мощную похоть, вынырнувшую неизвестно из какой мрачной клоаки. Что я за мерзкая свинья! Для секса все пути хороши. Я вдруг понимаю тех отцов, которые лишают девственности своих дочерей после хорошей порки. Они бьют их не для того, чтобы изнасиловать, нет. Просто их слезы после полученной выволочки пробуждают искреннюю жалость, а жалость эротична, чему я получил экспериментальное подтверждение. Но я, я говорю нет, этого не будет. И на сей раз никто не будет пинать меня по яйцам для усмирения. Я отрываюсь не без труда — и не без того, чтобы не обозвать себя несчастным дураком, — от соблазнительного зрелища и бегу в ванную, чтобы смочить голову, а также другие места холодной водой.
Когда я возвращаюсь, нахожу ее на том же месте, но теперь она сидит прямо, натянув юбку на сомкнутые колени. Она больше не плачет. Ее припухшие глаза смотрят враждебно. Я молчу. Я жду. Она первая не выдерживает:
— Ну как? Ты доволен? Занимался любовью с краном? Получил удовольствие, по крайней мере?
Как отвечать на подобное? Я начинаю терять самообладание, но стараюсь сдерживаться. Я говорю как можно спокойнее:
— Стефани, я не понимаю. Объясни мне.
Она подпрыгивает:
— Тебе еще надо объяснять? Разве не понятно? Когда я говорю "поцелуй меня", это означает "поцелуй меня". И не притворяйся, пожалуйста. Ненавижу лицемеров. Я тебе не нравлюсь, согласна, так и скажи. И привет, до свидания.
"Привет, до свидания", но она не трогается с места. А мне уже надоело все это. Я говорю:
— Это означало "поцелуй меня"… и продолжение. Так?
— О, дерьмо, ты хочешь, чтобы я полностью облажалась? Это тебя забавляет, садист? Да, "и продолжение", да, да, да! Почему бы и нет? Если бы я тебе сказала, как Лизон: "Я хочу, чтобы вы занялись со мной любовью", ты нашел бы в этом привкус в который раз подогретого блюда, разве не так? Почему Лизон и почему не я?
Опять она начинает плакать.
— Но, Стефани, потому что она Лизон, а ты — это ты.
Я борюсь с желанием обнять ее за плечи, побаюкать… Сделать то, что принято делать в таких случаях. Но я боюсь опасности контакта. Зверь усмирен временно, он не отказался от своего намерения, он готов наброситься, он начеку… Тогда я говорю:
— Стефани, ты хорошо знаешь, что это причинит боль Лизон.
— О, Лизон, всегда Лизон…
— Но я ее люблю, Стефани!
— Ну и что? Кто тебе мешает? К тому же Лизон ничего и не узнала бы, раз ты так боишься. Потом, я знаю, что ей на это наплевать. Ты все равно остаешься с ней, она получает лучшее, она довольна, она счастлива.
— Нет, Стефани. С тобой все по-другому, и ты это знаешь. С тобой — это будет предательство. Я не хочу ей делать больно. И я вовсе не уверен, что ты это затеяла не для того, чтобы причинить ей страдания.
— Чего ты добиваешься? Ты считаешь меня последней дрянью?
Все же она избегает смотреть мне в глаза. Я думаю, что я попал в цель. Чтобы сменить тему, я предлагаю:
— Я заварю чай. Хочешь?
Она делает недовольную гримасу:
— Чай! Ему преподносят самую красивую девушку в мире на золоченом подносе, а он отвечает: "Хочешь чаю?" Иди ты знаешь куда…
— Да, Стефани, знаю. В таком случае до свидания. У меня много работы.
Вдруг она смягчается:
— Хотя ладно, дай мне чаю. С молоком. Кажется, молоко хорошо успокаивает, когда кое-где зудит.
Я сдерживаюсь и не предлагаю ей банан, он ведь тоже помогает, но я сомневаюсь, что она в состоянии оценить этот солдатский юмор. Пока я в кухне ставлю воду на огонь, она кричит мне:
— Работа, о которой ты говоришь, это твой пресловутый роман?
От неожиданности я чуть не падаю.
— Тебе Лизон сказала?
— Успокойся, твоя Лизон мне ничего не говорила. Но я просто читаю по ней как по раскрытой книге, она совсем прозрачна, бедный ягненок, а я умножаю два на два и получаю четыре.
А я говорю себе, что маленькая гадюка передумала и приняла мое предложение насчет чашки чая именно в тот момент, когда я намекнул на работу, а теперь, похоже неспроста, наводит разговор на мой "пресловутый" роман. Это мне не нравится. Надо узнать, что ей вообще известно.
Мы пьем из двух цветастых чашек, подарка Лизон. Я дую на горячий чай и жду вопроса, который наверняка не заставит себя ждать. И правда:
— Это роман о любви?
— …
— Ты не хочешь о нем говорить? Честное слово, я никому не скажу. Никому.
— …
— Автобиографический?
— …
— Говори, не стесняйся. Там полно секса, держу пари. Насколько я тебя знаю, ты не можешь писать ни о чем, кроме секса и постели.
— …
— Мне плевать, я расскажу всем, что ты пишешь отвратительную книжку, полную порнографии, членов, спермы, которая сочится отовсюду, настоящий ужас, и что ты туда поместил кучу народу, и всех можно легко узнать, начиная с твоей драгоценной Элоди Брантом, почтенного преподавателя нашего почтенного лицея…
На этот раз ее ядовитое очарование не действует. На моем спокойном лице сияет безмятежная улыбка, означающая "говори что хочешь…". Она поднимается, она едва притронулась к чаю. Она говорит: "Привет, бедолага!", она хлопает дверью, она ушла.
Как бы ее раз десять не изнасиловали из-за ее прикида, пока она дойдет до метро… Может быть, я должен был бы ее проводить? Ох, ну и дерьмо!
У меня испортилось настроение. Из-за Стефани?
Может быть… Но нет, это же просто ребячество, размолвка маленьких самочек, которые ссорятся из-за мальчиков в кафешках, в общем типичные "Элен и ребята". Однако осталось неприятное чувство, смутное недовольство. Я причинил ей боль, вот что, а это я плохо переношу. Не оттого что отказал в том, Чего она добивалась, но оттого что вышел победителем в схватке. Мне понятна ее коварная игра сеятельницы раздора, но вопреки уверенности, что поступил так, как надо, я не могу отделаться от неприятного чувства, что одержал верх. Когда один выигрывает, другой теряет. Жаль. Победа мне горька, потому что есть проигравший. Я почти предпочел бы проиграть. Такой уж я. Кролик, который, убежав от волка, ему же сочувствует.
Мое стремление писать упало до нуля. Я томлюсь желанием разобраться во всем. Плохой знак. Я веду такую жизнь, которую любой здравомыслящий человек назвал бы дурацкой жизнью, но я так не считаю. Хотя бывают моменты…
Как сейчас, например. Тяжело жить на обочине. Даже когда знаешь, что не сможешь жить, как люди. Я ее уже пробовал, прямую линию. Ужасно. Как они могут?.. У моей жизни нет ни головы, ни хвоста, но ведь игра как раз в том и состоит, чтобы идти от головы до хвоста, собирая очки, это называется "продвигаться вперед", а в конце получить оценку "до конца выполненного долга". Для кого? Для чего? Для богов, которых люди себе сами изобретают, чтобы было кого бояться и перед кем отчитываться? Для внутреннего бога, которого они называют "совесть", "честь", "гордость", "чувство долга", "соперничество", "жертвенность?"… Для того, чтобы их детишки, эти капельки спермы, рассеянные по всему свету, гордились ими, когда их самих уже не будет? Для того, чтобы удивлять потомков? Для… для… Их жизнь — это игра в "гусёк", с той только разницей, что последняя клеточка, клеточка победителя, является также и гробовой… Можете вы представить себе, олухи, что вас здесь уже не будет, чтобы насладиться зрелищем? Нет, они не могут. Они изобретают себе бессмертную душу, дабы избежать необходимости смотреть в лицо костлявой… О, как легко их одурачить! Они сами только того и хотят, они боятся, это малые дети, заблудившиеся в темном лесу. Тем лучше для них, если они могут лгать себе и верить в собственную ложь или в ту ложь, которую им внушают. Тем хуже для меня, раз я на это не способен.
Но у меня есть то, чего нет у них. То, чего они не могут иметь. Это постоянное восхищение, это безумное желание, ненасытное, всегда наготове, питающееся почти ничем, способное закатить целый пир из-за одной улыбки, возносящее восторги до самого неба из-за одного только предчувствия сближения. Моя мания — мистическая любовь к женственности. Для них это невозможно. Погружение в манию пугает. И все же дьявольская пропасть их притягивает, завораживает. В мужской компании говорят только о сексе, шутят только на тему секса. Для того чтобы заговорить дьявола.