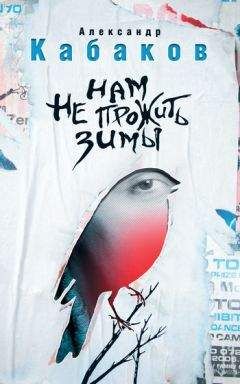Вагон проспал первый сон, и ночная жизнь этой движущейся казармы вступила в новую стадию. Кто-то в другом конце встал, было слышно, как долго топтался между полками, видимо, в поисках обуви, потом пошел в уборную, цепляясь плечами за торчащие со вторых полок ноги. Вернулся, улегся. В соседнем с ними отсеке послышался явный мужской шепот, хриплый женский, возня, заскрипела полка. Он сообразил, что иначе и не могло быть, почти половина вагона занята Тусовкой, и ребята ночь пропускать, конечно, не станут только из-за того, что нет отдельных спален. Полка скрипела, стонала женщина, хрипел мужчина – потом встали оба, она рванулась в уборную, хлопнула дверь, он закурил в тамбуре, и дым пополз в вагонную тьму.
Вот и Тусовка, подумал он, только двое нашлось таких резвых, да мы еще… Вот вам и Тусовка, подумал он – кишка тонка, а еще хвалятся… Совсем уже было не холодно, он закинул куртку на третью полку, но неудобно, конечно, было ужасно. Даже чтобы расстегнуться, пришлось выделывать нечто акробатическое, с опорой на одну руку. А о ней и говорить не приходилось – это было почти невозможно, джинсы окольцовывали, словно кандалы.
И все-таки они справились и с этим. А вагон спал, на нижних полках мирно храпели восемнадцати-, двадцати-, от силы двадцатипятилетние, парами, по трое и четверо, поддатые, поплывшие, заторчавшие, тащущиеся – и совершенно безразличные друг к другу, ребята храпели, девочки сопели, постанывали… Их было почти полвагона – и только двое нашлось среди них живых, подумал он. Двое – и еще мы.
Она задохнулась и совсем плотно сдвинула ноги, сжала их, так что он уже не мог пошевельнуться, да это уже и не требовалось, она задыхалась все сильнее, он уже совсем выключился и только опасался, как бы не выйти раньше, чем она этого захочет, но и этого можно было не опасаться, потому что она сжимала ноги все сильнее, и задыхалась, и сама двигалась едва ощутимо, так что не скрипнула полка, и все глубже проникала языком в его рот, прикасаясь к небу, к деснам, сталкиваясь с его языком.
Потом они остались лежать как лежали – только он старался не расслабить руки, чтобы не придавить ее всею тяжестью. И заснули, кажется, прямо так.
И лишь во сне он улегся сбоку, снова закинув руку на подушку, чтобы защитить ее от ветра.
Утром поезд стоял. Окна их вагона были в метре от сплошной серой стены, больше не было видно ничего. Тусовка собиралась на выход. Остальные в вагоне тихонько забились по полкам и ждали, когда наконец можно будет передохнуть от этой исчезающей угрозы. А Тусовка выходила в проход – джинсы, куртки, сапоги, цепи, кольца, волосы – Тусовка.
Они вдвоем тоже стали у выхода – тоже в джинсах, куртках, сапогах, его волосы можно было даже принять за крашеные, потому что седина была желтоватой, ее морщины, если присмотреться, были не глубже и не обильней, чем у других подруг, – закалка была иная, и до сих пор не ломалась она от всего, от чего двадцатилетние ломались за ночь.
– Что, понтяра, притомился? – спросил один парень, протискиваясь мимо него, без злобы, даже почти без издевки, почти добродушно. – На покой пора, дедушка…
Он было огрызнулся, было попытался ответить чем-то подобным, как бы ироническим, но она остановила:
– Ну, чего ты? Правильно все… Тусовщица и понтярщик. Идем…
На вокзальной площади их уже ждали. Увидав людей с автоматами, щитами, дубинками, в прозрачных забралах, Тусовка было рванулась назад, на перрон, но и дорогу туда уже перегородили люди в форме, в бронежилетах, с длинными палками в руках. В ту же минуту из всех репродукторов площади загремел невероятной громкости и напора марш – они уже знали этот марш, его всегда включали на полную мощность при выполнении Акции. Они услышали его впервые еще два года назад, только начав это свое бесконечное путешествие сквозь кровь и свою все время рифмующуюся с кровью любовь. Акция еще только была объявлена, еще многие не верили в серьезность намерений власти, еще ходили слухи и в самой Тусовке, что это только так – попугают, чтобы отлучить от рока, и от джинсов, и травки… Ведь не может быть, чтобы всех под корень, говорила Тусовка, ведь кто же рожать-то будет в полный рост, если всех до тридцати под Акцию пустят? Но марш уже гремел…
На площади было кончено минут через двадцать – ведь Тусовки приехало немного, человек восемнадцать. Прапора переходили от одного лежащего к другому, присматривались, и, если еще требовалось – один конец дубинки прижимался сапогом к асфальту, толстая резиновая палка ложилась на горло распростертого, и другим сапогом – на другой конец дубинки… И тихий не то скрип, не то треск раздавался над площадью. Прапора переговаривались между собой.
Они вышли с площади и наконец спрятали паспорта. Корочки, в которых они их хранили, были затасканные, обтрепавшиеся, но сами документы – как новенькие, и все даты видны, и все три фотографии на месте…
Они едва дотерпели до какого-то подъезда. Дом по дневному времени был совершенно пуст, все, конечно, были на работе. Его снова стала бить дрожь – подъездная сырость пробирала. Он привычно полез закоченевшими руками под ее свитер, прижал.
И, закидываясь, светясь прозрачными тонкими волосами против какого-то случайного лучика, проникшего сквозь серое стекло над дверью подъезда, она зашептала – ничего не выйдет у них, я старая тусовщица, а ты понтярщик, и мы живы, и ничего, ничего, ничего у них не выйдет, мы живы, живы, живы!
Ее рот приоткрылся, и он увидел, как блестит слюна в желобке между плотно, все еще плотно друг к другу стоящими передними зубами.