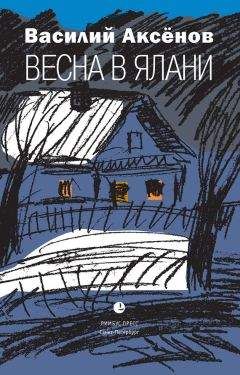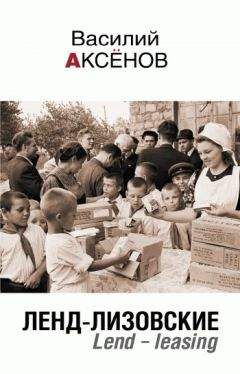Ознакомительная версия.
Лицо у Зинаиды перекошено, глаза округлились, почернели – так зрачки, наверное, расширились. Бывает. Искрами вылетает изо рта слюна – как будто языком о зубы высекатеся.
Что-то ещё кричит она – не разобрать. Коля не хочет ли расслышать это. С ним так случается: хоть закричись ему иной раз – будто глохнет.
Тихо говорит Галина Харитоновна, будто для Коли только, не для Зинаиды, Коля поэтому и разбирает:
– Я тока чё им и сказала, чтобы не прыгали уж шибко, не скакали, то пол, как сеялка, трясётся, игрушки бы свои собрали – по всей избе их раскидали, больше ничё. Там не пройти же, чё наделали, и мне, с клюкой-то…
– Она сказала! Чё наделали! А по какому праву ты сказала?! Дети должны свободно развиваться! – кричит Зинаида.
– Пусь разъиваютса, им кто мешат…
– Должны стать личностями, а не размазнями вроде тебя! И решения, – продолжает кричать Зинаида, – принимать они должны самостоятельно! Сами разбросали, сами бы и собрали! Она сказала! Нельзя приказывать им, поняла?! Чтобы психику их не нарушить, надо их убеждать, только по-умному!
– Дак я их тока убеждала.
– Так убеждала, что заплакали! Нацистка!
– Чё говоришь-то…
– Зинаида… – начал было Коля.
– А ты-то что?! Пьянь подзаборная, вообще замолкни! – повернувшись к Коле и выкатив на него глаза, кричит Зинаида. – Тебя, ничтожество, не спрашивают!
– Кольча, иди, не слушай нас, – говорит Галина Харитоновна. – Ишь чё творится тут, помилуй, Господи.
Коля стоит. Не знает, что сказать, ну и тем более – что сделать.
– Иди, иди, – говорит Галина Харитоновна. – Подальше от греха.
Рванулась Зинаида вдруг к крыльцу, минуя мать, замахнулась на неё детскими колготками. Но не стегнула.
– Вон чё, – говорит Галина Харитоновна. – Ишшо ударила бы. Дожила. От родной дочери едва не получила…
Грузно, но стремительно поднялась Зинаида на крыльцо, дверью за собой громко хлопнув, ворвалась в сени. В доме не унимается – голос её пронзительный в ограде слышно. Про что-то странное и непонятное кричит – про всеобщую забитость масс и отдельно взятых невежественных людишек, которые возомнили себе и верят, убогонькие, что они чего-то стоят, рассуждать про что-то ещё смеют. Про Живую Этику какую-то, ещё про что-то, вовсе уж чудное.
– Вот такие мы бывам, – говорит Галина Харитоновна. – Иди, иди, Кольча, иди… Мы уж тут как-нибудь. Переживём.
– Ну, я…
– Ступай, ступай. Так будет лучше.
Пошёл Кольча.
Нехорошо на душе у него сделалось. Сразу. Словно швырнул кто в неё лопатой битого стекла – осколки врезались, вонзились.
Ну вот, опять. И чё такое…
Прошёл ельником, под горючим складом, на яр вышел.
Верный откуда-то прибежал. Ластится. Мокрый от когтей до ушей. Воду с себя, брызгаясь, стряхивает – возбуждённый.
– Ты, – говорит Коля. Потрепал кобеля по загривку. – Тебе вот ладно.
Покрутился Верный возле Коли, вокруг всё обнюхал, на комле сосны отметился, опять куда-то – хвост трубой – умчался.
Пройдя тропинкой вверх по течению Кеми, облюбовал Коля на яру место ровнее и суше, под старыми, знакомыми с детства, соснами. Насобирав сучья, разжёг костёр. Принёс из ельника кем-то уже разрубленную пополам валёжину, в огонь её крест-накрест положил. Когда угли нагорят, картошку в них испечь можно будет – дело обычное.
Как на природе без костра. Да идь и холодно – согреться.
Стоит Коля, руки над костром держит, поворачивая их то вверх ладонями, то вниз. Переживает. Из-за сестры. И из-за матери. И из-за жизни.
Вот это… тоже… через раз. Раньше другой была – стихи читала. Теперь: наци-истка – и кому?!
Скамеечка уже есть – доска на чурках – кто-то недавно отмечал тут что-то, событие какое-то, так ли, природой, может, сидя, любовался. Вместо стола – широкий, невысокий пень. Среди сосен – как в беседке. Беда только – огромный муравейник рядом, под одной из сосен, и муравьи уже проснулись – придётся вытерпеть соседство это. Хотя пока их и не видно.
Носу на улицу не кажут – им не климат.
Солнышко проглянуло. Ярко отовсюду. И от реки ещё слепит.
Как холодно сделалось, вода в Кеми падать стала. Но большая ещё – шумит, пенится. Подмытые и обрушенные где-то лесины с торчащими над водой сучьями и корнями и льдины всё ещё несёт, и разный мусор, скопившийся с прошлого лета по берегам, насобирала. В воронках крутит этот хлам. Противоположный, низкий, берег скрыт водой, поток по лесу ещё ломится, до Камня. Камень на солнце грудью выставился, как скворец, и будто млеет.
Гриша пришёл. В бушлате. С рюкзаком.
– Озяб чё-то, – говорит.
– Не диво, – говорит Коля. – Мне в пиджаке-то…
– А чё куфайку не надел?
– Да чё-то это… Тут, у костра-то, не замёрзну.
– А чё ты здесь, а не у лавочки?
– Там молодёжь… вдруг соберётся.
– Пусть собирается, чё нам она? Старшим место уступать обязаны… должны. Ладно, и здесь вроде нормально.
Там место Катино. Ну, чтобы это…
– Кто тут, какая молодёжь, пока не слышно никого там… Не так уж и много нынче воды, – говорит Гриша, глядя на Кемь и выкладывая из рюкзака на пень, накрыв его прежде газетой, провизию: хлеб, сало солёное и копчёное, лук, чеснок. Рядом с пнём поставил литровую бутылку водки.
– Чтоб не упала.
Коля подумал что-то. Говорит:
– Но и не мало, – то ли про воду, то ли про водку, не про молодёжь.
– Прибудет ещё, – говорит Гриша, вытаскивая из кармана бушлата складной нож и раскрывая его. – Тепло-то если установится. Ещё грунтовая добавит.
– Но, – говорит Коля. – Наверно.
Внизу, под яром, на незатопленном мыске, мальчишки в костре картошку испекли уже, судя по запаху, – лакомятся. Рыбачат: весь мысок в удилищах – как в антеннах.
– Ловится чё?! – кричит им Гриша.
– Ерши! – кричат в ответ мальчишки.
– И то дело, – говорит Гриша. – Царь из ершей уху любил.
– Да нам хоть кошек накормить!
– И кошкам надо.
Утки туда-сюда летают, очумевшие. То вниз по Кеми, то вверх по ней, то над водой, то выше леса промелькнут – как отовсюду будто гонят их, нигде им, бедным, не присесть, не передохнуть, не покормиться – жалко.
Сезон открыт, дак чё ты хочешь…
Едва доносится: стреляют где-то.
– Не охотишься на уток? – спрашивает Коля.
– Охочусь, – отвечает Гриша. – Между застольем и похмелкой… Это же, выложил вон, утка. Не ножки Буша.
– Да? – говорит Коля.
– Кряква, – говорит Гриша. – У меня же в огороде прямо лыва – я на ней и караулю… В будку – коптильня-то – залезу и сижу… Уснул тут в ней, на табуреточке… Пил перед этим чуть не сутки.
– Один?
– Да нет. Один-то почему?.. С тёзкой, с напарником.
– А, с остяком.
– Давай, – говорит Гриша, доставая из кармана рюкзака поллитровую бутылку, – сначала самогонки помаленьку тяпнем. Для разгону.
Коля молчит – так соглашается.
Разлил Гриша по гранёным, зелёного стекла, стаканам – до полоски.
– Испугался? – спрашивает Гриша. – После уже по половине.
О-о-ох.
Подумал Коля так, а не вздохнул.
Чокнулись.
– За Победу.
– За Победу.
Выпили. Закусили.
– Давай ещё раз за Победу… Потом помедлим.
Выпили.
– Во-о, – говорит Гриша. – Погнали наши немцев. То ли дело.
Снял он с себя бушлат, бросил его на жухлую сосновую хвою, прилёг на него – на костёр смотрит. И говорит:
– Фронтовиков в Ялани почти не осталось… Плетиков, Белошапкин… Да и то фронтовики-то – призвали их осенью сорок пятого, пока везли на Дальний Восток, и война уже закончилась… Но всё равно считается – участники… Ну, дядя Гоша Енговатых – тот настоящий. Тому уж тоже восемьдесят с лишним…
– Но, – говорит Коля.
– Из Ялани, – говорит Гриша, – одних комсомольцев ушло на фронт семьдесят два человека, а вернулось из них двенадцать. И это только комсомольцев… Это Олег Истомин говорил мне – знает.
– Да, – говорит Коля, беря пальцами правой руки с ладони левой муравья и бросая его на землю.
Костёр близко – отогрелись, любопытные – что тут делается – проверяют.
– А коммунистов тогда сколько? – говорит Гриша. – А мужиков простых-то, беспартийных, – кто их подсчитывал?
– Ну, – говорит Коля.
– За мужиков простых… никем не считанных… родными только… сёстрами, жёнами да матерями, – говорит Гриша. Дотянулся он до бутылки, плеснул по стаканам. – Помянем… У меня два дядьки, один с двадцатого, другой с двадцать второго – совсем мальчишки… Иван и Митрофан Степановичи Фоминых… И где схоронены, не знаю. Знал бы, хоть съездил, мать, покойница, просила, с могил земельки бы привёз… Из тех, несчитанных. Нашей, яланской, бы и там посыпал… где прах-то ихний.
– Цифры-то есть, – говорит Коля.
– Какие цифры? – спрашивает Гриша.
– В процентах, – говорит Коля.
– Я пью за дядек, а не за проценты. И за отцов… И скольких братьев я лишился, – говорит Гриша. – Сестёр и братьев… Считает кто-то… поимённо. Ну давай, – говорит. – За нерождённых.
Ознакомительная версия.