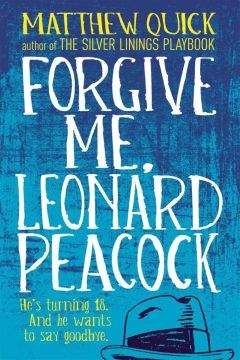Интересно, разговаривал ли он с Линдой после того, как я отрубился, и что, блин, он ей там наговорил?
И смог ли он заставить ее почувствовать себя хотя бы капельку виноватой из-за такой непростительной забывчивости? Смог ли он пробиться сквозь всю эту штукатурку на фасаде высокой моды?
И как много он рассказал ей о том, что случилось?
И было ли ей хоть чуточку не наплевать?
Я абсолютно уверен, что теперь герр Силверман впутает в это дело школьное начальство и школьный психолог станет оценивать мое психическое состояние с целью определить, представляю ли я угрозу для себя или окружающих, а когда они поймут, насколько оно неустойчивое, то накачают меня лекарствами и посадят в психушку, и я сразу начинаю волноваться на тему, как и где все будет происходить. А что, если это окажется даже хуже моей теперешней жизни?
А что,
если герр
Силверман
ошибается
насчет
моего
будущего?
Неожиданно я понимаю, что пора сваливать отсюда, пока он не проснулся.
Свалить как можно быстрее подальше от герра Силвермана и нашего разговора прошлой ночью – теперь для меня задача номер один.
Я навязываю свое общество.
Меня здесь не должно быть.
Возможно, я даже не должен оставаться в живых.
Возможно, я просто хочу насладиться последними часами свободы, прежде чем меня посадят в психушку.
Возможно, я просто нуждаюсь в личном пространстве.
Так или иначе, я медленно встаю и на цыпочках прокрадываюсь мимо закрытой двери спальни в кухню, где нахожу приклеенные к холодильнику стикеры.
Я пишу:
Герр Силверман!
Не беспокойтесь; я в порядке. Хочу побыть один.
Еду домой. Опасность миновала.
Не о чем беспокоиться. НЕ О ЧЕМ.
Простите.
Спасибо вам.
Л. П.
P. S. Извинитесь за меня перед Джулиусом. Такого больше не повторится.
Обещаю.
Я на цыпочках пробираюсь через гостиную и чувствую огромное облегчение от того, что входная дверь закрывается без скрипа и скрежета.
Я ушел.
Я спускаюсь по лестнице на первый этаж, и вот я уже на предрассветных улицах Филадельфии.
Вокруг ни души, и я начинаю представлять себе, будто весь город оказался под водами океана. Я представляю себе, как ныряю с аквалангом, причем это довольно легко сделать, поскольку на улице темно и безлюдно, и вообще, я весь мокрый от пота после ночи под пуховым одеялом, которым укрыл меня герр Силверман, а также из-за жуткого нервяка, который так и не прошел, хотя я и стараюсь не думать о вчерашнем дне и о том, что, возможно, сделал ошибку, выбрав жизнь.
Спустившись в подземку, я проползаю под турникетом, чувствуя, как к ладоням прилипает отвратительная городская грязь, потому что у меня с собой нет денег, и я жду в пропахшем мочой, загаженном подбрюшье Филадельфии, представляя, будто я в потоках света ныряю с аквалангом, плыву вместе с Горацио по туннелям метро и, возможно, даже показываю С. граффити на стенах, ведь она уже стала достаточно взрослой, чтобы исследовать с аквалангом столь опасные замкнутые водные объекты.
После бесконечных, как мне показалось, часов ожидания приходит поезд, и я единственный пассажир в вагоне.
И вот, когда мы выбираемся из-под земли и едем по мосту Бена Франклина, солнце лениво поднимается на востоке из-за горизонта, и я невольно жмурюсь от яркого света.
Я слышу, как объявляют мою станцию, встаю с места и стараюсь удержаться на ногах, пока поезд замедляет ход.
Еще слишком рано для зомби в деловых костюмах, хотя я точно знаю, что уже совсем скоро они начнут кучковаться на платформе.
Возле турникетов дежурит охранник метрополитена, поэтому мне нужно срочно принять решение, поскольку у меня нет билета, чтобы выйти наружу.
И только я собираюсь дать деру, как вижу на земле старый билет.
Поднимаю его и вставляю в автомат.
Естественно, номер не проходит.
– Офицер, – говорю я и машу бумажным прямоугольником. – Мой билет не работает.
– Тогда подлезь под турникет, – отвечает он, шумно прихлебывая кофе из пластикового стаканчика размером с ведро, и поворачивается ко мне спиной.
Я проползаю под турникетом и выхожу на улицу, залитую первыми утренними лучами света.
У меня еще нет четкого плана, но я почему-то делаю круг и прохожу мимо дома Лорен, расположенного рядом с церковью ее папы.
Когда я смотрю через дорогу на ее дом, у меня, типа, возникает такое чувство, будто дом этот тоже смотрит на меня, словно два ряда окон на втором этаже – это глаза, а ряд окон на первом – рот. Вроде того, что можно увидеть в старых фильмах ужаса: дом, оживающий в виде лица.
И у меня вдруг возникает дурацкая фантазия, как я звоню в дверь и на пороге появляется Лорен в белом банном халате, открывающем верхнюю часть груди, на которой висит серебряный крестик, который я ей подарил. Мы разговариваем, и я благодарю ее за то, что она молится за меня, и она отвечает, типа, как здорово, что ты жив, и мы дружно соглашаемся, что не стоило нам целоваться, а затем обмениваемся рукопожатием и желаем друг другу счастья – вроде как все прощено и забыто. Но все это чушь собачья, ведь я отлично знаю, что мое хамское поведение с Лорен так легко простить невозможно, и в результате мне становится совсем паршиво.
– Твою мать! – говорю я уже в реальной жизни, стоя на тротуаре напротив дома Лорен, и качаю головой.
Я понимаю, что поступил как форменный придурок, когда вырвал у Лорен поцелуй, более того – как самый настоящий лицемер.
Нехороший человек.
Я иду прочь.
Возможно, я больше никогда не буду разговаривать с Лорен, но это не страшно.
Возможно, даже к лучшему.
Возможно, я и преследовал-то ее исключительно потому, что знал: между нами не может быть никаких отношений. Словно она была для меня безопасным экзаменом на зрелость, ведь ей настолько задурили голову ее религией, что у нас все равно ничего не вышло бы. Но в результате я завалил экзамен, и что это значит?
Я не знаю.
И вообще, ужасно, что именно она была первой девчонкой, которую я поцеловал, так как я навсегда запомню свой первый поцелуй с девочкой, и теперь это будет вечным напоминанием о том, что было после. И я начинаю реально волноваться, что начиная с сегодняшнего дня каждый раз, когда я буду целоваться с девочкой, меня будут немедленно одолевать воспоминания об этой ужасной ночи. Типа, возможно, я больше никогда не буду получать удовольствия от поцелуев.
От всех этих дел на меня накатывает такая тоска, что я решаю пойти к Уолту. Я подхожу к его дому и открываю своим ключом дверь.
Я слышу, как орет телевизор.
У Уолта проблемы со слухом, поэтому громкость звука меня нисколечко не удивляет.
А вот что меня действительно удивляет, так это то, что с утра пораньше он уже смотрит фильмы с Богартом.
Я слышу надменный голос Кэтрин Хепберн и понимаю, что он снова смотрит «Африканскую королеву».
– ПРИВЕТ! – проходя под люстрой, как можно громче говорю я.
Уолт не отвечает, а когда видит меня на пороге комнаты, вроде как подскакивает в кресле, смотрит на меня чуть ли не минуту, с помощью пульта останавливает фильм и спрашивает:
– Леонард?
– Да, это я. Собственной персоной.
– Не мог заснуть. Ночь напролет смотрел фильмы с Богги. Я действительно очень волновался за тебя. Я решил, что… Я позвонил тебе домой, но никто не ответил, и…
Мы просто долго-долго смотрим друг другу в глаза, потому что он не хочет говорить, о чем думает, а я не хочу говорить о прошлой ночи.
Наконец он собирается в кучку и прячется за безопасной рутиной наших привычных ритуалов: берет с подлокотника кресла свою богартовскую шляпу, напяливает на голову и делает лицо, как у кинозвезды из старого доброго кино[71].
– «Что-то не так, мистер Оллнат? Скажите, прошу вас», – произносит он, едва шевеля губами, неестественно высоким голосом, так как изображает сейчас Роуз Сейер – героиню Кэтрин Хепберн из «Африканской королевы».
Я поправляю свою шляпу, хотя в этом фильме Богги не носит такой шляпы, и отвечаю:
– «Ничего. Ничего такого, что вы можете понять».
– «Неужели вас что-то угнетает в такой прекрасный день? Скажите, что именно?» – не выходя из роли, спрашивает Уолт.
И вдруг я чувствую, что мне больше не хочется обмениваться репликами из фильмов с Богартом, поэтому я снимаю шляпу и уже нормальным голосом говорю:
– Уолт, вчерашний день был очень плохим. Просто ужасным.