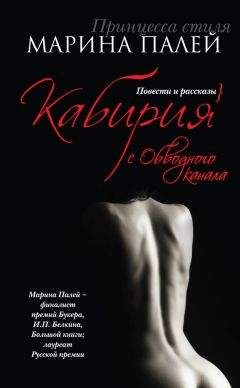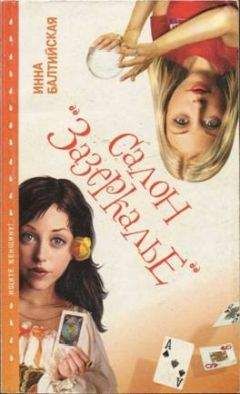Допустим, я вежливо улыбаюсь, а он не отстает, может, поэтому и не отстает, он принимается говорить что-то много и быстро на кипящем и булькающем языке, никогда прежде я не слышала этот язык, и при этом еще жестикулирует, как глухонемой, – он говорит, как заведенный, смеется, размахивает руками и совершенно не обращает внимания на мой демонстративно отсутствующий вид, – я понимаю, что отвязаться теперь трудно, вот наказанье, да откуда он взялся, этот индивид, его вроде бы здесь не было, встаю, он хватает меня за руку, продолжая яростно что-то объяснять и доказывать, я пытаюсь вырваться, он свободной рукой достает из сумки плеер, кладет его себе на колени и, все больше раскаляя свою тарабарщину, тычет пальцем в меня, в плеер, я выдергиваю руку, он нажимает кнопку, и летит музыка, та самая, помнишь, когда мы... ты помнишь?..
И ты оборачиваешься.
Если бы я была Господь Бог, я бы держала в поле зрения не только галактики разом, но иногда пристраивала бы глаза к потолку комнаты, где безмолвствуют двое и так отчетливо тикают, проклюнувшись, часики.
Пахнет смертью, и вечностью, и влажным истекшим семенем, и, жадно дыша, молчит гранатовое соцветье Вселенной, прекрасное и нерасторжимое во всех частях.
К потолку такой комнаты надо бы пристраивать иногда глаза Господу Богу, потому что светлый взгляд женщины, напоенный покоем, и смыслом, и невыразимой благодарностью, послан именно Ему, и до обидного глупо, если взгляд этот, рассеявшись в пространстве, не в силах Его достичь.
У меня больше не будет такого взгляда.
Получается, мне нечем отблагодарить Господа Бога. Получается, что, даже простым соглядатаем пристроив глаза свои к потолку своей комнаты, мне не увидеть оттуда своих лучших глаз.
Мы поели, поспали. Точней, ты вздремнул, я глядела. Потом мы еще съели пополам бутерброд и выпили из стаканчиков. Я сама собрала крошки, обертки и вынесла в туалет – вполне совместная жизнь.
Потом, когда мы пристегивали ремни, тебе что-то попало в глаз, ты попросил посмотреть, ты всегда доверял мне в таких делах, мы принялись вместе орудовать зеркальцем и платочком, и тут стюардесса сказала: «Монреаль, аэропорт Мирабель интернасьональ».
«Уже приземлились?» – по-детски обиженно спросил ты, и судорога изуродовала твой прекрасный рот.
Я знаю эту судорогу, такая была у тебя, когда ты в первый раз меня раздевал, ты нервный, я потом видела эту судорогу часто, ты очень нервный, тебе нельзя расстраиваться, – я сейчас, – говорю я тебе.
Я спокойно иду по проходу хвостового салона, я изо всех сил стараюсь идти спокойно, ноги дрожат, проход еще свободен, сейчас бы рвануть, но ты смотришь мне в спину, я нащупываю в кармане обратный билет, все в порядке, вхожу в бизнес-класс, в проходе люди, пожалуйста, пропустите, ради бога, скорей, скорей, пропустите, носовой салон, пропустите меня, пропустите, дайте дорогу, пропустите, вот уже «рукав» к залам аэропорта, я бегу, скорей, скорей, пропустите, падаю, меня перешагивают, мы часто лежали с тобой, обнявшись, на полу, на снегу, на обочине ночного шоссе, это неправильно, что по нашим теням ходят, надо обвести контуры мертвых тел, случилось убийство, я бегу, дайте дорогу, сейчас только бы скрыться – и на обратный рейс, а ты так и не поймешь, что только для встречи с тобой я устроила этот полет, подгадала предлог, заменила лицо, вымолила нелетную, а потом летную погоду, знаешь, мне даже кажется, только чтобы увидеть тебя, я сотворила эту Северную Америку, а заодно и Южную, и нашу с тобой Евразию, и все остальные материки этой большой и скудной планеты, где нам не судьба быть вместе, а сила притяжения которой так велика, что падающий из разжатых пальцев стакан (со мной всегда так), еще не успев долететь, разбивается вдребезги.
Анклав для двоих
Святочный рассказ
Хотя облезлый Glamourr (кот восьми лет) еще целых полмесяца мог обеспечивать мне крышу и провиант, я в срочном порядке свалила из того гнездышка. Короче говоря, когда госпожа по фамилии van der (дальше не помню), вверившая мне свое вдовье сокровище, экстренно вернулась с калифорнийских вакаций, я уже устраивала свой ночлег под мостом на другом конце Амстердама.
В день бегства у меня оставалось как раз полчаса, чтобы собрать свои непритязательные манатки. Я рассортировала кладь ручную (ха-xa: какую же еще?) – на маленькие кучки – затем быстро увязала каждую из них в прозрачный полиэтиленовый мешочек. Получилось мешочков пятнадцать. (Мне повезло: в кухне вдовы я нашла целый рулон этих одноразовых – чем-то родственных презервативам – пластиковых кисетов для сэндвичей.)
Эти емкости, набитые моим мелким и очень мелким барахлом, выглядели почти как на картине, автора которой не помню, хотя изображение люблю. Классический сюр: берег водоема, земляная насыпь, а по ее склону, рядами и колоннами, в тупом поступательном энтузиазме, ползут из воды (ползут в воду?) крепко-накрепко завязанные у горлышка, притом трогательные своей пузатостью, мешочки с водой. Повторяю: я люблю эту картину. Но грозди мешочков, каждый размером с мини-барсетку, я накрутила совсем не поэтому.
Просто вы не знаете нидерландских лестниц. Особенно тех, что являются как бы позвоночной осью двухуровневых жилищ. Дело даже не в том, что чужие ступеньки – крутéньки, хотя не без этого. Если б я была, оборони меня бог, школьной училкой, я бы объясняла своим недорослям – именно на примере нидерландских лестниц – что такое прямой угол. (По поводу этих архитектурных деталей мой американский «экс», вернувшись как-то к столику кафе из труднодоступного ватерклозета, молвил, что-де, a law-suit is waiting to happen[10]. К тому же упомянутые пиратские трапы, в их традиционном исполнении, имеют шириной не более полутора аршинов. На таких лестницах не разойдутся не то что две дамы в кринолинax, но непременно ввязнет в травматогенную ситуацию даже одна-единственная дама – в джинсах и с чемоданчиком.
Однако люди, как правило, не боятся трудностей, которые создают сами, – поэтому, например, свою мебель аборигены древней Батавии, то есть потомственные флибустьеры, традиционно вволакивают в жилища (выволакивают из жилищ) непосредственно через окна. Для этого следует привести в действие сугубо мужской – словно бы абордажный – механизм крюков, тросов и колесиков, хитроумно устроенный под самым коньком крыши, а вряд ли таким механизмом воспользуется кукующее на птичьих правах антропоморфное существо, которое желало бы стать и вовсе невидимым.
То есть я.
Так что пришлось мне спускать мои мешочки по лестнице кубарем. Затем выкатываться вслед за ними самой. Затем, внизу, узелки эти я побросала в большой черный мешок для мусора. Так-то поудобней тащить: на плече. Не считаю безоговорочным изречение своя ноша плеч не тянет, но все же.
Основная досада состояла в том, что «делать ноги» пришлось из-за подвернувшейся работенки. Вот уж точно: лучшее – враг хорошего, ведь кот кормил меня вполне сносно! И главная досада – если бы, скажем, соблазнившая меня работенка оказалась постыдной (хотя в Батавии постыдных работ не существует, здесь позорно безделье) – но нет: подвалила мне вполне респектабельная халтура, и была она связана, и смех и грех, опять же с нивой школьного образования. Но об этом чуть позже, сейчас мне некогда, потому что надо сначала рассказать, откуда взялся этот поляк, который мне так «удружил». (А разве нет?! Кавычки надо бы снять!)
Он возник, кажется, в кафе «MIRAKEL» – точно не скажу, – но зато помню отчетливо, что был-то он вовсе и не поляк (мысленно такой «nick» дала ему я), а являлся как раз потомственным подданным королей Оранских, хотя и на удивление маленького роста – поэтому-то я и воспринимала его как иноземца. Он был «повернут» на польском языке и литературе, а потому работал толмачом; его толстушка-жена была вывезена им непосредственно из Кракова.
Вот ему-то я и позвонила наутро после побега. Спасибо моей природе: несмотря на румынско-еврейско-литовскую кровь (а может, именно благодаря такому крюшону), выгляжу я, говорят, как наполеоновская коханка, Мария Валевска. Так что у меня хватило ума назваться Гражиной-Викторией, а не просто Викой – причем назваться так еще в первую нашу встречу, то есть когда этот, под стать жене, колобочек заторчал от моих рисунков. («А по-польски, – я состроила тогда покаянную, очень покаянную мину, – нет, увы, не говорю, потому что выросла, так получилось, в Москве».)
Этот коротышка подрабатывал в вечерней школе: как можно догадаться, он преподавал там падким до экзотики чудакам польский язык. (С самим этим поляком общалась я на английском.)
В первое же утро после побега мне удалось позвонить ему из уличного телефона, с элегантной иронией обрисовать ситуацию (как будто пересказывая комедию положений, где главным персонажем была вовсе даже не я) и полувопросительно (полупросительно) сообщить, что перезвоню вечером.