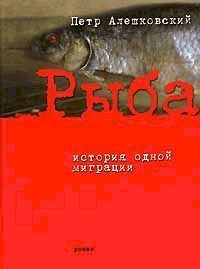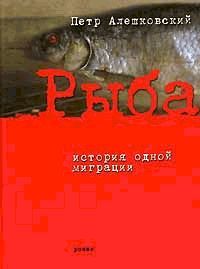— Юку!
Он повернул лицо — скорбное, никогда таким его не видела.
— Что случилось?
— Колокол!
Утром Юку еще звонил, не чуя беды. Отзвонив, он пошел в хлев, а когда вернулся, заметил, что под перекладиной пусто. Уши постепенно расшатали железную скобу. Колокол упал, и, как назло, ударился плечом о наковальню, которую Юку притащил сюда недели две назад и забыл. По всей юбке расползлась трещина. Дед подвесил колокол на звонницу, но голос исчез, звук выходил фальшивый и очень быстро затихал.
— Беда, Вера, я, старый дурак, сам виноват.
Впервые я видела, что он плачет. Слезы текли по щекам, по бороде, он не стыдился их, но весь сжался, словно утратил всю свою крепость.
Я долго его успокаивала, сидела рядом, баюкала, как младенца, гладила по большой седой голове, тепло моей руки наконец его успокоило. Он встал, умыл лицо и вышел на двор, принялся за работу.
Вечером мы еще поговорили с полчаса, лежа в кроватях. Юку перечислял, что следует сделать завтра, потом вдруг вспомнил, что не откинул на марлю творог, встал и сделал это сам, не дал мне подняться.
Утром он был сам не свой, долго собирался, ходил из угла в угол, не спешил на улицу, но все же вышел. Я посматривала на него из окна в кухне. Дед долго стоял около звонницы, опустив руки, как перед свежевырытой могилой, затем шагнул, как-то странно подвернулись ноги, и он упал лицом в сырую апрельскую грязь.
Я выскочила к нему — лицо деда было пунцовое, губы синие, он уже не дышал. Он умер от инсульта моментально, так умирают праведники, — не страдал, не мучился, наверное, и сам не заметил. Я перетащила его в избу, обмыла тело, одела во все чистое, положила на доски, на две табуретки, подвязала полотенцем челюсть.
К полудню уже была в Конакове. На счастье, единственный телефон в деревне работал. Я позвонила в Жуково, в колхоз. Привезли гроб. На третий день мы похоронили деда в Починке, на старом кладбище. Народу провожать Юку Манизера пришло много. Ко мне подошла Лейда:
— Вера, ты домой не собираешься?
— Да, тетя Лейда, продам скот, заколочу хутор и приеду.
Так я и сделала. Две коровы, бычок, телка, поросенок, лошадь, восемь овец — колхоз помог мне их продать: на руки я получила целое состояние, обменяла в Фировском сбербанке рубли на доллары, как советовали хранить деньги москвичи-охотники; вышло — тысяча триста пятьдесят. Еще сколько-то лежало у Юку в заначке, он специально показал мне место:
— Будет на что меня хоронить. Не хватит — накошу летом сена, продам — больше будет. Здесь можно копейки зарабатывать — только поспешай, конаковские разленились, им скоро всем крышка, а я и за сто проживу, так?
И прожил бы, если б не колокол.
Представляю, как комментировал «Голос Нурмекундии» свалившееся на меня богатство, но мне было все равно. Колхозный печник Леня Кустов сделал памятник на могиле: в цементный цветник я попросила впаять нурмекундский колокол. Надеюсь, он постоит, хотя, боюсь, охочие до цветного металла конаковцы выдерут его.
Я вернулась в Карманово. Тактичная Лейда ни словом не обмолвилась о моем истерическом бегстве. Все это время она исправно раз в день топила печь в моем доме, берегла ссыпанную в подпол картошку. Мы зажили дружно, как и не расставались, я рассказывала ей о Юку Манизере — Лейда слушала, скупо комментировала:
— Он был работящий, настоящий крестьянин. Таких теперь здесь нет. Мой Петер его уважал.
Через неделю после похорон я запрягла Мустанга, съездила на кладбище. Убралась, пересадила на холмик какую-то болотную травку и подснежники. Колокол пока стоял, на темной бронзе струи дождя уже прочертили малахитовые дорожки.
13
Деньги, что достались мне в наследство от Юку, сулили надежду вырваться отсюда. Его смерть поставила точку в моем затворничестве.
Надо было родиться тут, чтобы принимать эту жизнь естественно и безропотно, с радостью, как Юку и Лейда. Спиваться вместе с округой мне не грозило, но и работать задарма или жить приживалкой не хотелось. Конечно, денег было немного, жилье в городе купить я себе не смогла бы, но я вспоминала харабалинских: у них было меньше, и ничего — прижились. Я вдруг поняла, что скучаю по больнице и больным, по запаху хлорки, по ночным дежурствам — Юку нуждался в уходе, Лейда — нет. Стало ясно, что пора выбираться. Вопрос был: куда и как?
В конце апреля вдруг прикатил Валерка — у них кончилась картошка. У меня был полный подпол, и я обрадовалась, что могу помочь горожанам, я — не заработавшая ни гроша. Отгрузила им два мешка — один свекрови и Петровичу, за то, что пустили на постой, другой — им со Светой, как-нибудь до новой продержатся. Показала в подполе семенную:
— На праздники, как хотите, но приезжайте, сажайте сами, я больше в колхозницу не играю.
Сели за стол, обсудили все, Валерка обещал поискать мне место в больнице. Он прижился в Волочке, заработал репутацию — кто только не чинил теперь у него машины. Был среди его клиентов и главврач ЦКБ Беляев.
— Как только договорюсь, сразу за тобой приеду, — сказал мне сын на прощанье, чмокнул в щеку и укатил.
Про зимнюю эпопею мы с Лейдой договорились ему не рассказывать. На Новый год Валерка не приезжал, значит, нечего было ему и знать о моей жизни у Юку Манизера. Я тогда была немного огорчена таким поведением сына, но вспоминала слова деда: «Надейся на себя, помогай бескорыстно, помощи не проси». Вся его одинокая жизнь и лагерный опыт были в этой формуле. Юку никогда на людей не обижался.
— Зачем, пусть они обижаются, проще не заметить, пустое это.
На Валерку не обижалась. Даже если б он и захотел, вряд ли смог бы добраться сюда: пять верст дороги от Конакова — сплошной сугроб, по верху которого тянулся едва видный след от манизеровых саней. Юку рассказывал мне, что эстонцы традиционно встречали не Новый год, а Рождество, поэтому я готовила ему подарок к ночи с шестого на седьмое января. Как же я была рада, когда он приехал тридцатого декабря из Конакова, поставил на стол бутылку шампанского:
— Завтра — Уус Аста — Новый год, давай, Вера, твори тесто — будем праздновать!
Напекла пирогов, навертела котлет, поставила в сени холодец. Я давно замечала, что он что-то затевает: последнюю неделю Юку пропадал в сарае, где хранил инструменты, возился с паяльной лампой, а на вопросы отвечал уклончиво. Я же тайно вязала ему теплый свитер с высоким горлом. Белой шерстью вышила на груди «Нурмекундия», а на спине — «Юку Манизер» и большой номер 1, как у футболистов. В одиннадцать сели за стол, выпили по рюмочке самогону, настоянного на клюкве, закусили — проводили Старый год. Минут за десять до полуночи Юку вышел в сени. Ровно в двенадцать раздались три громких удара в дверь.
— Кто там, войдите! — произнесла я торжественно.
Юку вошел в костюме Йыулувана — в красных шароварах, красной накидке, сшить кафтан сил ему не хватило. Смастерил он костюм из старого советского флага, на накидке остались сильно затертые серп и молот, наведенные бронзовой краской.
— Хед ууд астад! — пожелал мне куковкинский Йыулувана.
— Хед ууд астад! С Новым годом! — Я обняла и трижды поцеловала его.
Юку достал из кармана коробочку из бересты. В ней лежал золотой крестик на кожаном шнурке.
— Айтах, Юку!
— Пожалуйста, Вера!
Я и сейчас ношу этот лютеранский крестик — такой же, только медный носил всю жизнь Юку, с него он снял мерку, выточил в камне форму, расплавил паяльной лампой старинную монету и сделал мне подарок к празднику. Крестик у старого лагерного арматурщика получился замечательный, Юку отполировал его так, что он блестит и по сей день. Монету дедка нашел, когда разбирал остатки сгоревшего родительского дома — по старинной традиции, под правый венец при строительстве обязательно клали на счастье золотой.
Я поблагодарила, но свой подарок приберегла. Выложила свитер рядом с его кроватью в нашу рождественскую ночь, и он, проснувшись поутру, оценил мой ответ…
Так что на сына я не обижалась — стыдно признаться, но мне было хорошо в тот Новый год в Куковкине с Юку Манизером. Теперь я решила поверить Валерке, подождать месяц, помочь посадить картошку, а там…
Я не загадывала, только молилась про себя и суеверно держалась при этом за золотой крестик.
Первого мая на большом американском джипе прибыл Андрей Мамошкин с тремя охотниками. Охотники приехали за глухарем: рядом с Кармановым было четыре тока. На полях, где играли тетерева, поставили два шалаша — двое шли на тетеревов, одного Андрей водил на глухаря. На следующий день менялись — все довольны, все оказались с добычей.
Днем отсыпались, вечером выходили к ручью, на полянки, стреляли вальдшнепов. Рябчика весной Мамошкин бить не разрешал: рябчик — птица парная, убьешь самца, самка другого не выберет. Такой подход мне нравился, а Лейда просто души в Андрее не чаяла — он ездил сюда давно, дружил еще с ее Петером, который в лес с ружьем не ходил, жалел живность, но настоящих охотников уважал.