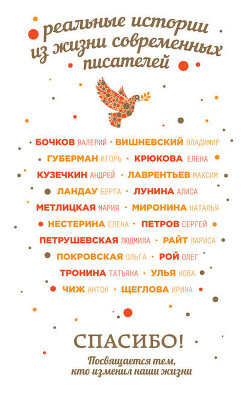– Мамаша с ребенком? – подхватила я, думая про себя, вот и я тоже скоро буду такой мамашей, раздражающей свободных красивых молодых людей.
– Мне никогда не везет с попутчиками. – Он пожал плечами.
– Такая же беда. – Он нравился мне все сильнее, я даже на миг забыла о своей беременности и предстоящей свадьбе… да какая к черту свадьба, если имя жениха почти полностью выветрилось из моей памяти…
Он представился Игорем, рассказал о том, что сам из Воронежа, навещал родителей, а теперь летит в Братск. «Вы ведь знаете такой город»? – уточнил.
Я слушала и кивала, «разумеется знаю», где-то далеко есть такой город, там еще Братская ГЭС, кто же не знает…
Кажется, я спутала его с Кузнецком, о котором писал Маяковский:
По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
Под старою телегою
Рабочие лежат.
И слышит шепот гордый
вода и под и над:
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»
– Вы совсем не похожи на промокшего рабочего из-под телеги, – пошутила я.
Он рассмеялся и начал рассказывать о городе.
Братск представлялся мне пятиэтажным, с промышленными зонами, тяжелыми грузовиками на дорогах, гулким, трудящимся, современным. Мои родители жили в таком. Города новостройки пятидесятых годов, много таких появилось по всей стране, поворачивающей реки вспять, взрывающей недра, двигающей горы, не ждущей милостей от природы.
– Давно вы там живете? – спросила я.
– Нет, недавно, я по распределению попал…
Выяснилось, что мы с ним из одного вуза, только мне еще два года учиться, а он специалист, работает на серьезном производстве.
– Как говорится, денег нет – иди в пед, стыда нет – иди в мед, у кого ни тех, ни тех – поступайте в политех! – последнюю строчку мы произнесли хором и рассмеялись.
– На каникулы? – спросил он и пропел шутливо: – От сессии до сессии живут студенты весело, а сессии всего два раза в год.
– Да, к родителям, в Казахстан.
– Далеко забрались, – уважительно кивнул Игорь.
– Так же как и вы по распределению после института попали на металлургический комбинат, да так и остались. А вы скучаете по дому?
– Скучаю, – признался он, – но если вы спросите, хочу ли я вернуться, не знаю. Там перспективы, карьера, там жизнь кипит. А дома – налаженный быт и сто сорок рублей до пенсии в должности рядового инженера.
Я кивнула. Мне тоже захотелось кипения жизни, карьерного роста, туманных вершин и манящих далей.
Игорь прямо-таки лучился счастьем. И я рядом с ним потихоньку отогрелась и оттаяла.
– На каком же вы факультете? Наверняка у нас есть общие знакомые. Вот повезло мне встретить вас! Как же здорово!
– Механизации и автоматизации машиностроения.
– Да мы с вами можно сказать, коллеги! Я тоже с мехтеха! – Он сделал серьезное лицо и пропел на мотив «Раскинулось море широко»: Сумей теорему Коши доказать, иль будешь с мехтеха уволен!
Я подхватила:
– С экзамена вышел, сознанья уж нет, в глазах у него помутилось, мелькнул перед ним стипендии свет и сердце к нулю закатилось.
– Смена растет!
– Спрашиваете! Я еще на абитуре ее выучила. А насчет теоремы Коши, дифференциальные уравнения – мой конек. – Мне захотелось похвастаться: – Редькин единственной со всего курса по вышке отлично поставил! Он у вас вел?
– Знаменитый профессор Редькин? Да, конечно! – подхватил Игорь. – А термех, Гольник?
– Он! А вы Пачевского знаете?
– Роботизируя ха́оc, мы получаем ха́ос роботизированный! – Игорь очень похоже передразнил преподавателя по спецтехнологии.
Из динамиков донеслось: «Уважаемые пассажиры, наш самолет начал снижение…»
Мы замолчали, глядя друг на друга. Я первая опомнилась, виновато отвела глаза, пристегивала ремень, суетилась. Я почти влюбилась в него, такой он был хороший, свой, что если бы… но, нет, нельзя.
Самолет приземлился. Нас пригласили к выходу. Игорь подал мне пальто. Мы все так же молчали, продвигаясь к выходу.
На улице было морозно, по гололедице мела поземка. Я поскользнулась. Игорь осторожно взял меня под локоть и довел до автобуса.
Нас повезли к зданию аэровокзала, мы стояли очень близко, он продолжал придерживать меня.
И вдруг наклонился и предложил:
– Полетели со мной в Братск!
Ошеломленная, подняла на него глаза:
– Шутите?
Он отрицательно качнул головой:
– Нет, абсолютно серьезно! Я не хочу с вами расставаться!
Эх, Игорь, знал бы ты…
– Я понимаю, вы думаете, что это безрассудство, а я думаю, что нас судьба свела! Ну, решайтесь же!
Автобус остановился.
Он по-прежнему держал меня под локоть, он нес мою сумку до остановки и уговаривал, уговаривал… А я семенила рядом и изнывала от невозможности бросить все и улететь с ним в Братск, или Комсомольск, или к черту на кулички…
Три дня в деканате покойник лежал,
В штаны Пифагора одетый,
В руках он зачетную книжку держал,
А рядом клочок от билета.
Я заметила под парами последний автобус в Домодедово, вот-вот отойдет, и бросилась к нему. Игорь побежал за мной, когда я уже вскочила в салон и обернулась, подал сумку, глядя снизу вверх так, будто пытался впитать и запомнить.
Мы расстались скомканно, сумбурно, не обменявшись адресами. Ни он, ни я не узнали друг у друга фамилий.
Разлетелись в разные концы необъятной родины.
Не знаю, искал ли он. Я – нет. Не до него было.
Марксист свое веское слово сказал:
Материя не исчезает.
Загнется студент, на могиле его
Огромный лопух вырастает.
Я потеряла ребенка, и с замужеством ничего не вышло, мы разбежались.
Тридцать лет миновало с той поры, а я нет-нет да и вспомню со щемящей благодарностью о моем попутчике.
Вспомню и подумаю:
Как сложилась бы моя жизнь, брось я все тогда и улети с ним…
Мне очень хочется сказать спасибо моей несостоявшейся любви.
Лишь синуса график волна за волной
По оси абсцисс пробегает…
Елена Крюкова
Сначала музыкант (Московская консерватория, фортепиано и орган), потом поэт – собственная тайная музыка; потом прозаик – роман как любимая крупная форма, рядом с симфонией и фреской. Пространство-время, огромность и трагедийность мира оправданы и освящены любовью – и это лейтмотив всех книг Елены.
«Быть художником – большое счастье», – говорит Елена и всей своей жизнью доказывает это.
Поздно
Как просто зажечь свечу.
Сейчас не жгут свечи. Сейчас лампочки везде. Весь двадцатый век лампочки, и двадцать первый начался, все лампы, лампы, и мертвый дневной свет, и похоронен свет живой. Окинуть взглядом ноты и книги так просто. Провести зрачками вниз-вверх, быстро обнять, ты каждый корешок наизусть знаешь, ты все арии молча твердишь. Пламя взлетает светом суровым! У любви, как у пташки, крылья, ее нельзя никак поймать! Maledizione, maledizione! Все арии и все романсы. Все кантаты и все канцоны. Метель за окном, она сейчас пробьет окно, пробьет мне ребра навылет и выйдет в другом времени, в другой ночи. Там, где меня уже нет. И не будет никогда. Как это, как это я сама сказала? А? Не помнишь? Горбатый странник на земле, нога от странствия тверда. Пишу я звездами во мгле: МЕНЯ НЕ БУДЕТ НИКОГДА. Что-то в этом роде, да. Губы, раскрывайтесь! А голоса нет. Вы не знаете, как это – петь молча? А я знаю. Я часто так сама себе пою. Пою, а голос внутри звучит. Тьма обнимает, а в ней голос, знаете, светится. И тьма перестает быть тьмой. Она переливается внутри. Так переливается чей-то красивый, веселый косящий глаз. Это женский глаз, я знаю. Женщина, чуть склонив голову, исподлобья глядит на меня. У нее пышные золотые волосы, золотой пеной встают надо лбом, за ушами, сама смуглая, на юге загорела, что ли, а глаз, я так ясно вижу его, серый, прозрачный. Вспыхивает, как австралийский опал, если вертеть его в руках. В сморщенных старых пальцах.