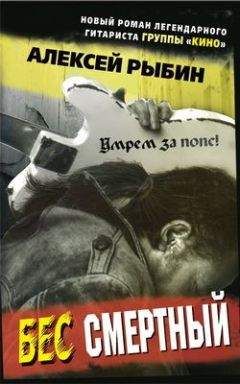Карл Фридрихович молча сел напротив скисшего, но старающегося не показывать этого Сухорукова. Витя покрутился за спиной притихшего паренька, глянул на шефа и вперевалочку отправился к стойке бара.
– Присаживайся, – пригласил меня куратор.
Шарканье, шепот и тупое звяканье столовых приборов растворились в деревянном скрежете двух виолончелей. Я уселся за стол, положив ногу на ногу, и посмотрел в сторону источника шума.
Низенькую эстраду заливал синий свет голливудских фильмов ужасов. Две голые барышни сидели на низеньких табуретах, расставив ноги и прислонив к промежностям выпуклые корпуса виолончелей. Они синхронно размахивали правыми руками, широко отводя в сторону толстые смычки и резко втыкая их в клубы дыма, ползущие по сцене. Смычки скрежетали, скользя по веревкам струн, а барышни весьма эротично пробегали пальчиками по широким черным грифам своих инструментов.
Очень тонко. Ни в коем случае не порнография – порнография запрещена строжайшим образом, наказание за порнографию почти как за убийство. А эротика в приличном месте – пожалуйста. За хорошую плату. За деньги, которые обычный пролетарий, самый опасный элемент общества, потенциальный криминал, никогда в жизни не выложит за то, чтобы посмотреть на голую бабу.
Порнографические журналы у нас не издаются – в том числе и подпольно. Слишком велик риск получить пожизненное. Компьютеров у обывателей нет и быть не может – за компьютерами следят еще строже, чем за оружием и музыкальными инструментами. Не говоря уже о кистях, красках, холстах, грунтовке и всяких там шпателях. Кисти, краски и все остальные аксессуары для рисования можно купить в специальном магазине – по предъявлении диплома Академии художеств. Так же как и музыкальные инструменты продаются только выпускникам Консерватории…
Кино еще целомудреннее, чем было когда-то при Советской власти. Про театр можно забыть – там, кроме Чехова, никого уже несколько лет не ставят. Впрочем, в театр я не хожу, поэтому не знаю, может быть, там уже замахнулись на какого-нибудь Тургенева или Солженицына.
Однако для людей обеспеченных, а значит, лояльных и безопасных для общества, людей, которые никогда не выйдут на улицу с кастетом в кармане и без кредитной карточки, клубничные развлечения имелись. Вот хоть как здесь, к примеру, в «Бедных людях».
Про такие штуки я слышал, сам, правда, ни разу на легальном стриптизе не присутствовал – неинтересно мне уже, да и насмотрелся в молодости. До революции. Тогда этого стриптиза и порнухи столько было – ведрами черпай, а все останется полон колодец. И по телевизору, и по радио – заслуженные артистки шептали и постанывали в микрофон, передавая ощущения оргазма или неудовлетворенности, в зависимости от жанра постановки.
Про Интернет и вспоминать не стоит. Кино, театр, реклама, литература, легкая промышленность – все существовало в глубоком и прямом русле порнухи. Довольно весело было.
Сейчас не так. Сейчас в школах беременных старшеклассниц не бывает. Зато имеются голые виолончелистки, которых, судя по слухам, за умеренную для этого заведения плату можно подцепить и отхарить прямо в соседнем со сценой кабинетике, для таких забав специально приспособленном.
Играли музыкантши отвратительно, так что мне их было не жалко. Видно, ни на что больше не годны с лица приятные девушки, кроме как потеть в тесном кабинетике под полураздетым офицером полиции нравов. Или скакать верхом на известном юмористе.
– Ну, показывай, – сказал Карл Фридрихович Сухорукову, и тот, зацепившись острым локтем за край стола, по счастью, крепко привинченного к полу, вытащил из внутреннего кармана пиджака мятый листок бумаги.
– Сейчас, – торопливо забормотал Сухоруков, разворачивая листок.
Однако же куратор, протянув над столом руку, выхватил бумажку и, не глядя, сунул в карман.
– Я сам посмотрю.
– Но…
– Что – но? Я же сказал: как ты напишешь, так и будет. Ты у нас арт-директор, тебе и решать. И вся ответственность на тебе. А я просто посмотрю. Имею я право просто посмотреть, а?
– Да, конечно…
Сухоруков, мгновенно надувшийся от «арт-директора», снова опал, услышав в словах Карла Фридриховича явное к себе пренебрежение.
– И президент наш посмотрит. Правильно, Боцман?
– Правильно. Все, что ни скажешь, – правильно, – ответил я. Мне было совершенно все равно, что за бумажку притащил модный мальчик моему шефу. Скажут посмотреть – посмотрю. Чего же не посмотреть…
– Я еще думал…
– Нечего думать, – оборвал его куратор. – Все уже давно придумано. Надо только делать.
– Здорово! – стараясь не потерять лица и ощущения собственной значимости, воскликнул Сухоруков. – Здорово! Наконец-то пришло время, наконец-то можно что-то реально делать!
– А чем ты занимаешься? – спросил я у раскрасневшегося модника, но тут над нашими головами проплыл, как летающая тарелка, круглый поднос, уставленный бутылками, тарелками, мисками и плошками. Так здесь было принято подавать кушанья и напитки – все сразу, в один прием.
Витя вернулся от стойки, уселся рядом со мной и задышал жарким мартеном в предвкушении приема пищи.
Когда двое официантов с попками зрелых педерастов, обтянутыми черными трико, уплыли в темноту зала, куратор полез во внутренний карман куртки.
– Это тебе. – Он протянул Сухорукову пухлый конверт.
Модник пощупал конверт тонкими пальцами. Раскрыл, заглянул внутрь.
– Ё-моё!
– На развитие современного искусства, – сказал Карл Фридрихович. – Посчитал?
– Сейчас…
Сухоруков шуршал купюрами так громко, что перекрывал завывания двух виолончелей. Голые девчонки играли что-то из Шостаковича.
– Три… тысячи?
– Да. Надеюсь, истратишь на дело? – Куратор наполнил свою пиалу коньяком. – Просто так я, знаешь, деньгами не разбрасываюсь…
– Конечно, – очень убедительно сказал Сухоруков. – На дело. Мне альбом писать. Столько всего нужно.
– Что нужно, ты и так получишь. Я имею в виду аппарат. А деньги… Они для творчества тебе даны.
– Ага. Хорошо. Спасибо.
Я, как, вероятно, и Сухоруков, не очень понимал, что значит «деньги для творчества» и как их можно истратить в этом случае с толком. На мой взгляд, деньги, полученные «на творчество», уместнее всего пропить, прогулять и потратить на баб. Тем самым получив новые или старые, но сильные ощущения, которые и послужат катализатором этого самого творчества.
– Это тебе, – прервал мои размышления Карл, бросив на стол конверт. Одним уголком он угодил в блюдечко с белым жидким салатом. Здесь явно перекладывали сметаны. Наверное, так было нужно…
Я сунул конверт в карман, не открывая. На ощупь и по тупому скользкому звуку, отозвавшемуся в пальцах легким зудом, в моем конверте, как и в сухоруковском, лежали крупные купюры. Куратор глотнул из пиалы и хмыкнул.
– Берет, как будто так и надо.
Витя, опорожнив пиалу одним глотком и тут же снова наполнив, цыкнул зубом.
– А что такое? – спросил я и оторвал от туловища лежавшего на фарфоровом блюде поросенка теплый, дрожащий в руках кусок.
– Это тебе аванс… Ты же еще ни черта не сделал, – сказал Карл Фридрихович. – Это только от моего хорошего к тебе отношения.
Куратор налил себе во второй раз, Витя – в третий. Сухоруков придерживался темпа Карла Фридриховича, я шел ноздря в ноздрю с охранником.
Виолончели заскрипели «Времена года» Вивальди. Меня передернуло. Карл Фридрихович поморщился.
– Хватит тут своим эстетством трясти, – сказал он, поднимая толстую глиняную пиалу. – Музыка как музыка. Потерпи. Через неделю у нас открытие.
– Как? – дернулся Сухоруков, и куратор снова поморщился.
– Да. Через неделю. Предлагаю… э-э-э…
Он явно хотел сказать «друзья», но вовремя осекся. И то правда – какие мы с ним друзья?
– Товарищи, – вывернулся Карл Фридрихович. Я быстро наполнил пиалу.
– Я хочу выпить за нас. Как только судьба не тасует колоду!
Я подумал, что сейчас меня стошнит.
– Кто бы мог подумать, что мы окажемся вместе. Что будем делать одно дело. Да какое! – Карл Фридрихович хихикнул. – Дело нужное, – продолжил он. – И прибыльное.
Сухоруков икнул.
– Вперед! – скомандовал куратор, и я снова наполнил свою пиалу. Я не в силах был ждать, пока Карл Фридрихович прервет поток банальностей. Выпил первым, оторвавшись от коллектива, и поймал на себе неодобрительный взгляд охранника Вити. Впрочем, новую порцию я успел проглотить уже вместе с компанией.
После внезапно наступившей, но непродолжительной тьмы, в которой растворились лица куратора, шофера Вити и юного стиляги, я обнаружил себя в комнате, задрапированной черным бархатом. Кровать, на которой я лежал, была покрыта мягким пледом, тоже черным и мягким, а прямо на мне сидела одна из давешних виолончелисток. Теперь на ней был черный бюстгальтер, снизу же она была, как и на рабочем месте, голой. Хотя кто ее разберет, где ее настоящее рабочее место. Может, на моем пузе и есть ее самое рабочее место.