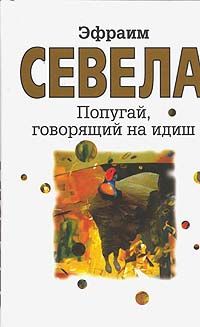За дощатой перегородкой я слышал недовольные голоса, затем раздраженный крик. Стены в доме такие тонкие, что я различал не только голоса, но и скрип стула и ночной храп. Ссорились две старухи: хозяйка-латышка и еврейская бабушка из Москвы. И еврейка и латышка, обе владели русским языком весьма приблизительно, и речь их была окрашена непробиваемым акцентом, у каждой своим, так что со стороны эта ссора могла вызвать только улыбку.
Я был знаком с обеими. Каждое утро здоровался с ними, иногда перекидывался парой-другой слов. Не больше. Но и этого было достаточно, чтоб иметь кое-какое представление об их прошлом. Обе пострадали в годы второй мировой войны. У еврейки, подвижной старушонки с неразгибаемой спиной, погибли в гетто почти все родственники, а с фронта не вернулись муж и сын. В живых осталась лишь дочь, и когда та, подросши, вышла замуж за приличного человека, мать осталась при них экономкой, кухаркой и нянькой внучатам. Мне она под строгим секретом проговорилась, что они всей семьей собираются в Израиль и ей ни капельки не жаль расставаться с этой антисемитской страной, будь она трижды неладна.
Латышка была примерно ее лет. Немногословная, замкнутая и не скрывающая своей неприязни к нам. дачникам, понаехавшим на лето из России в ее родную и, как она считала, оккупированную Латвию. А то, что мы лишь русские евреи, а не русские, не смягчало в ее глазах нашей вины. Все евреи у нее ассоциировались с комиссарами, приведшими сюда русских солдат и лишивших бедную Латвию, как невинности, ее такой недолгой независимости. Поэтому во вторую мировую войну ее сын пошел служить в немецкую армию, чтоб мстить русским, и не вернулся домой. Тогда же она потеряла и дочь. Осталась доживать с мужем, и этот дом на взморье был ее основным кормильцем. Она сдавала комнаты всем, кто согласен был уплатить довольно высокую цену. И даже евреям. Ибо евреи составляли большинство дачников и платили, не слишком торгуясь и вперед.
Я вслушивался в нелепую, с жутким акцентом, перебранку за стеной, и то, что я слышал, вовсе не настраивало на улыбку. Старухи не очень церемонились и били друг дружку по самым болезненным местам. По национальным. Еврейка в гневе обличала не только хозяйку, но и всех латышей в том, что во время войны они вместе с немцами убивали евреев и грабили еврейские дома. И что этот дом на взморье, она уверена, тоже принадлежал евреям, а они с мужем убили их обитателей и завладели чужим добром. Латышка не оставалась в долгу и проклинала евреев, которые всегда, по ее глубокому убеждению, были врагами Латвии и открыли двери русским большевикам и вместе с ними выгоняли латышей из их домов и отправляли их в холодную Сибирь. И как последнюю и главную причину своей неприязни к евреям латышка швырнула дачнице гибель дочери. Не от руки евреев. Но из-за них.
Озлобленные крики за стеной били по моим ушам:
— Жиды! Иуды! Оккупанты!
— Латышская свинья! Убийцы! Предатели! Дольше оставаться в доме не было моих сил. Набросив на плечи плащ (зонт я не прихватил из Москвы, потому что до осени было далеко), вышел под мелкий моросящий дождь на пустынную улицу. Низко бежали лохматые серые тучи. Порывы ветра с моря раскачивали верхушки сосен, и оттуда, как град, на мою голову пригоршнями сыпались крупные капли.
Улица, как просека в лесу, полого спускалась к пляжу, и в створе крайних сосен виднелось море— уголочек темно-пепельной мути, нечеткой линией отделенной от неба, тоже пепельного цвета, но чуть посветлее.
От соседей и от других дачников, приезжающих сюда ежегодно и поэтому бывших в курсе всех дел обитателей взморья, я кое-что знал о том, что случилось с дочерью нашей хозяйки. Я составил эту историю из обрывков, услышанных от несловоохотливых, но знающих правду латышек и многословных и подозрительно далеких от истины дачных кумушек. И история эта зазвучала печально и светло, как фольклорные старинные легенды о верной и трагической любви, что .переходят из поколения по всему Балтийскому побережью, как сестры, схожие одна с другой, и у латышей, и у литовцев, и у эстонцев. У евреев подобных легенд я не слыхал. И может быть, эта, если время ее не сотрет, восполнит пробел в еврейской мифологии и прибавит также кое-что к латышским сагам.
Потому что героями этой легенды, подлинными, не вымышленными, были латышская девушка Милда и юный еврей Ян, имя которого по-латышски звучало Янис. Как у героинь старых саг, у Милды были густые золотые волосы до пояса и серые, как небо над Балтикой, глаза. Янис был смугл, и волосы его вились кольцами, а глаза темно-карие, как спелые вишни на синеве белков.
Между ними была любовь. Тихая, даже потаенная. Потому что и латышские родители Милды, и еврейские— Яниса не одобрили бы ее. И завязалась эта любовь задолго до того, как немецкие войска оккупировали Ригу и загнали всех евреев в гетто, за колючую проволоку, поставив латышскую полицию сторожить. В гетто попал и Янис. Оттуда он выйти не мог. Милду же туда не пускали. Влюбленных разлучили. Потом евреев стали вывозить партиями в Румбулу, под Ригу, и там в сосновом лесу, в оставшихся от войны противотанковых рвах, расстреливали. Сотнями каждый день. Когда ров заполнялся телами доверху, новая партия засыпала могилу песком, а сама отправлялась в сопровождении палачей к другому рву, еще пустому. Противотанковых рвов вокруг Румбулы было много.
Улицы гетто пустели. Каждый день новые и новые дома оставались без обитателей, и из никем не закрываемых на ночь окон доносился лишь вой голодных кошек, которые хоть и прежде принадлежали евреям, но евреями не были и поэтому не подлежали уничтожению.
Семья Милды была состоятельной. Дом на взморье, большая квартира в центре Риги. Картины в дубовых рамах. Ковры. И предмет семейной гордости— столовое серебро старинной работы. Несколько столетий переходившее от прабабушки к бабушке, от нее к матери и предназначенное Милде, когда она выйдет замуж. Серебра хватало на большую свадьбу. Столько в наборе было ложек, вилок и ножей. А какие подносы! Кофейники! Сахарницы! Молочницы! Все из чистого серебра, тепло отливавшего за стеклянными створками дубового резного буфета. Мать обожала фамильное серберо и никому не доверяла, сама начищала его песочком и разными смесями, доводя до нестерпимого блеска.
Однажды серебро исчезло из дома. В ту ночь не вернулась под отчий кров Милда. И в следующую ночь тоже. Лишь много позже мать и отец узнали, куда девалось все фамильное серебро, а вместе с ним и их единственная дочь.
Не представляла себе Милда жизни без Яниса. Чтоб спасти его из гетто, нужны были деньги. Подкупить полицейскую охрану. Милда отнесла им фамильное серебро. Латыши полицейские ночью вывели Яниса за ворота гетто, где дожидалась Милда. А она уже повела его глухими улицами, рискуя наскочить на немецкий патруль, из города. Привела на взморье, в тот самый дом, где я нынче снимал комнату. Дом тогда пустовал. Родители жили в Риге.
А следующей ночью оба ушли в море. На веслах. В лодке, которую отец Милды держал на пляже для прогулок.
Я полагаю, что ночь была темной, безлунной. А море — бурным, штормовым. Ибо в полный штиль да при луне не отважились бы они пуститься в море, где рыщут немецкие сторожевые катера, а с неба прощупывают водную гладь самолеты-разведчики. Высокие волны и темнота могли их укрыть от чужого глаза. Но эти же волны швыряли лодку, как щепку, грозя потопить, и не давали двигаться вперед, норовя вырвать весла.
Как они удержались на плаву, не опрокинулись? Где взяли сил грести против волны, час за часом, всю ночь и день? Как миновали сторожевые катера, прожекторными лучами рассекавшие пенные гребни волн? Как не столкнулись с рогатой плавающей миной, которыми Балтийское море было нафаршировано погуще, чем клецками мамин суп?
Все прошли, все миновали. И сил хватило. Потому что несли их крылья любви.
Они пересекли Балтийское море и достигли шведских берегов. В нейтральной Швеции, где войной и не пахло, они поженились и прожили счастливо четыре года до самой победы над Германией. И когда мир наступил на земле и по Балтийскому морю пошли вместо эсминцев пассажирские пароходы, с первым рейсом из Стокгольма в Ригу прибыли Милда и Янис. Соскучившись по Латвии и своим родным.
Латвия уже была не Латвией. А республикой в составе СССР. В Рижском порту пароход встретили советские солдаты и вопросы сошедшим на берег пассажирам задавали по-русски.
Яниса арестовали там же в порту. За то, что спасся из гетто, откуда другим уйти не удалось. Значит, что-то нечисто. Попахивает предательством. Объяснения Милды, что она выкупила его, отдав полицейским все фамильное серебро, никто слушать не стал. Янису дали десять лет лагерей за измену Родине и отправили в Сибирь.
А Милда сошла с ума.
Она бродила по Риге простоволосая, в грязной рваной одежде и заглядывала каждому встречному мужчине в лицо. А когда на улице никого не было, громко звала: