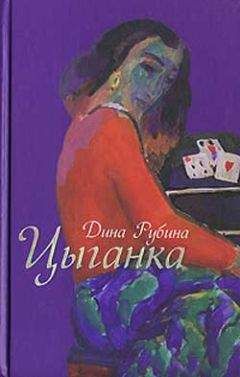Ознакомительная версия.
А, понятно, это какие-то древние тексты, которые они комментируют.
Голос черного , глуховатый и отрывистый, звучал контрапунктом, но он держал ритм, задавал темп беседе; голос белого , наоборот — певучий, богато интонированный, – то взмывал, то опускался до проникновенного речитатива. Говорил белый длинными выразительными фразами, чуть театрально, на окончаниях фраз помогая себе закругленными движениями кисти.
— Вот, сказано тут: «Кто сей змей, что летает по воздуху и ходит без провожатого, тогда как муравей между его зубов получает от этого удовольствие, начало которого в обществе, а конец в одиночестве? Кто сей орел, свивший себе гнездо на древе, которого не существует? Кто его птенцы, взрастающие, но не среди созданий, кои сотворены на месте, где они не были сотворены?».
При всей экзотичности наряда белый , в отличие от черного , казался проще и оживленнее. У него был широкий утиный нос, острые веселые глазки, развитая грудная клетка, крепкие икры. Он вполне мог исполнить роль пожилого мушкетера в какой-нибудь голливудской бодяге, а внешне похож был на Рембрандта, с того автопортрета, где на коленях он держит некрасивую и белобрысую, но любимую Саскию.
— «Кто те, что, восходя, нисходят и, нисходя, восходят, два, составляющие одно, и одно, равное трем? Кто та прекрасная дева, на которой никто не останавливает своих взоров, чье тело сокрыто и открыто, которая выходит утром и скрывается днем, надевает украшения, коих нет?».
Что он несет? Или это я набрался до полного одурения?
Время от времени Аркадий нащупывал слева бутылку и наливал себе вина, довольно слабого, но приятного на вкус — неясно, что там в нем такого уж святого…
Замечательно, что здесь он никому не был нужен и никому не мешал. Старик, абсолютно поглощенный беседой двоих, лишь изредка оборачивался к случайному гостю и рассеянно улыбался ему. Время от времени, после того или иного аргумента в споре, он всплескивал руками, закидывал голову в немом восторге и подмигивал сам себе, мол, знай наших!
Только сейчас Аркадий понял, что стол стоит в центре комнаты не случайно — это как бы сцена, подиум для таких вот теологических диспутов.
— Когда в первый день творения Всевышний создал тьму раньше света, то под этим словом подразумевался праэлемент огня, тот, что прежде чем проявиться в нашем мире как реальный огонь, дающий свет и тепло, оставался холодным и несветящимся… – Черный произносил фразы медленно, как говорят заики, преодолевшие свой недостаток.
— Верно! – подхватил белый и опять взмахнул рукой, то ли поощряя сказанное, то ли в подтверждение собственным словам. Так дирижер дает знак струнным вступить.
— Намек на это содержится в книге «Дварим». О Синайском откровении сказано: «И слово его ты услышал из среды огня», а затем — «И было, когда услышали они голос из мрака». Комментарий Раши на слово «Тьма».
— О чем они говорят? – спросил Аркадий старика. Тот поднятой ладонью велел ему помалкивать, и когда черный склонился листать волны книги, шепотом пояснил:
— Идея в том, что, сопоставляя два разных изречения на одно и то же событие, они постигают его сущность… Ты слушай, слушай! Это большой человек, большой ученый, из Иерусалима. Его предок по женской линии — Магарал из Праги. Ты знаешь, кто такой Магарал, благословенна память его? Тот великий кабаллист, кто создал Голема… – Он восторженно покачал головой. – Большой человек… Но и наш не плох!
Аркадий хотел уточнить, кто из них наш , а кто иерусалимец, потомок Магарала, но — промолчал. Какая разница, подумал он.
По зернисто-каменным сводам потолка метались тени от канделябров, словно кто-то размахивал черным плащом.
Белый между тем продолжал с неподдельным воодушевлением, с каким актеры читают стихи:
— Но вот что пишет Рамбан: «Второй раз в том же абзаце слово „тьма“ употреблено в обычном словарном значении, как отсутствие света, а не обозначение праэлемента огня. В тот момент, когда произошло отделение света от тьмы, тьма и свет перешли в новое качество. Тем самым Всевышний скрыл первозданный свет, сделав его недоступным для нечестивых, которые — знал Он — появятся в будущем. И предназначил его для праведников в грядущем мире. Где же хранится первозданный свет?..».
— Но и свет и тьма нужны для управления миром, – черный слегка напряг голос, – об этом писал раввин Шимшон Рафаэль Гирш из Франкфурта: «Свет выявляет объекты в их индивидуальном существовании, а тьма, временно скрывая болезненно резкие воздействия, делает возможным взаимодействие сущностей, усиливая их эффективность…».
Боже, ну и напился же я …
Клоня голову на руки, Аркадий успел мысленно похвалить замечательно удобные доски на бочках — лучше любого стола и так по-летнему пахнут: деревом… вином… хлебом… Как же случилось, что, столько лет живя в этом городе, он ничего не знал о подвале Дувида-Азиса и мог бы и дальше жить, ничего не зная о черном и белом. Мог упустить их, беседующих в золотой мгле туманной зимней ночи — в ночи, где смешались тьма со светом.
Трехмастная кошка с лицом Арлекина вспрыгнула на доски и улеглась рядом, у локтя. Словно была стариком приставлена стеречь гостя.
Несколько раз старик оглаживал мягкой тяжелой ладонью его спину и слегка потрепывал, будто проверял — крепко ли уснул гость, осиливший половину бутыли полнолунных песен кабаллистов Святого Цфата…
Но Аркадию казалось, что именно сейчас он слышит и понимает все, не пропуская ни единого намека, ни одного глубинного всплеска, ни одного дополнительного толкования; и каждое слово белого светится солнечной ясностью смысла, а каждое слово черного окутывает сущности и предметы тенью сомнений.
Аркадий чувствовал, что должен, должен задать вопрос, который так мучил его последние годы: если Всевышний, что так заботится о проявлении объектов в их индивидуальном существовании , все же допускает убийство одного объекта другим — не должен ли упомянутый Всевышний проходить по делу как соучастник преступления?
Но спросить не успел.
Вдруг они запели оба! – чистейшим дуэтом: бас и баритональный тенор — великолепно интонируя, словно долгими ночами здесь репетировали. Мелодия чем-то напоминала «Нигун» Блоха, этот страстный, отчаянный монолог парящей над фоном скрипки; и Аркадий совсем не удивился, так и должно было быть: где же, как не в музыке, свет и тьма соединяются безупречно, не уничтожая, но обогащая друг друга!
Не день и ночь, пели они, а утро и вечер — вот начало и конец, конец и начало, извечный круг познания. «Эрев» — вечер, время, когда расплываются очертания мира. «Бокер» — утро, время, когда вещи отделяются одна от другой, давая возможность разглядеть их отличия, ощутить их границы, осознать меру вещей, осязать душой красоту и величие мира…
…Когда он поднял голову с налитых свинцовой тяжестью рук и откинулся к гнутой спинке венского стула, рассвет уже зажег цветные пузырчатые стекла двух узких окон над дверью, протянув по зернистому своду потолка длинные полосы, красную и синюю.
Снаружи толковали рассветные горлинки.
Четыре мощных канделябра, увитых стылыми слезами отгоревших свечей, стояли там же, на столе, над одним рожком вился дым последнего прерывистого огонька, точно запоздалый аргумент в оконченном диспуте.
В подвале не было ни души, но огромная книга лежала, по-прежнему вздыбив страницы двумя крутыми волнами. Бутыли с вином стояли на полке, а на досках перед Аркадием лежал одинокий лимон, тихо лучась в рассветной струе зеленоватым золотом.
На полу, расстелив свой деревенский хвост-половичок, старательно вылизывала рыжую лапу молчаливая кошка с лицом Арлекина.
В приоткрытую дверь подвала доносилось бодрое шарканье — возможно, старик подметал возле дома. Надо было поблагодарить его за гостеприимство, но минувшая странная ночь почему-то взывала к молчанию.
Пошарив в карманах, Аркадий выложил на струганные доски все наличные деньги — у него было смутное ощущение, что старик денег не ждет, но живет же он на что-то! – опустил в карман куртки подаренный лимон, дождался, когда шарканье стихнет, и покинул подвал.
Он шел рассветными улочками вдоль глухих каменных заборов со следами голубой краски, через новый, недостроенный район брацлавских хасидов, благодарно вгрызаясь в кислющий и терпкий лимон, морщась и улыбаясь — как это было кстати!
Вышел на гребень горы к старинному кладбищу, нависшему над дорогой.
За ночь туман рассеялся, только внизу плавали жидкие, как пена в корыте, остатки спитой ночи…
Ознакомительная версия.