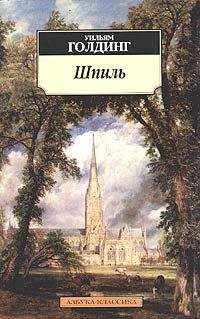Ознакомительная версия.
– Каменщик. Роджер Каменщик.
Лица низко склонились над ним, удивленные, с поднятыми бровями, они говорили длинно и непонятно.
– Роджер Каменщик!
И сразу он задохнулся словами и мыслями. Грудь отказывалась подниматься, и он в страхе пытался ей помочь. Он почувствовал, как руки приподняли и посадили его.
А потом он снова лежал, глядя на каменное ребро потолка, по которому медленно ползли яркие полосы света.
– Где же я был?
Но тут чье-то лицо заслонило свет, склонилось над ним, дрожащее, с красными веками, и ее черные волосы зазмеились по его телу, а рот зиял, непрестанно открываясь и закрываясь. Она накинулась так неистово, что он мог лишь смотреть безучастно, не в силах уследить за смыслом ее слов.
– В сарае, между кучей лука и мешком пшеницы…
Неужели когда-нибудь ей придется расстаться с жизнью, которой в ней такая бездна? Всепожирающий рот, праведница…
– …на четвереньках. С петлей на шее, и обломок стропила на другом конце веревки. Он всегда говорил, что в его деле самое трудное рассчитать прочность, но бог знает…
«Бог, – подумал Джослин, и все показалось ему ничтожным. – Бог? Если бы я мог вернуть прошлое, я стал бы искать Бога среди людей. Но теперь колдовство сокрыло Его».
– Сидит у огня, голову свесил на плечо, ничего не видит и не слышит, я все должна делать для него, все! Понимаете? Ходить, как за малым ребенком!
Он равнодушно смотрел, как руки отца Адама увели ее, услышал, как ее пронзительный плач всплеснулся рядом, а потом затих на лестнице. И он каким-то образом увидел отрешенное лицо Роджера Каменщика, детей на траве, скорченного Пэнголла, охраняющего средокрестие. Он увидел неуклюжие перекрытия башни, громоздкие, расщепленные венцы. И тяжесть навалилась на него.
«Я не могу больше, – подумал он. – Не могу. Я не в силах даже пожалеть их. И себя тоже».
В комнате слышалось бормотание, звяканье металла. Лицо отца Адама снова низко склонилось над ним. Он видел, как губы священника произнесли какое-то слово, но, обессиленный, не пытался его уловить.
Голубые глаза мигнули. Вокруг них появились морщинки. Губы снова пошевелились. И на этот раз его одурманенный маковым отваром слух поймал слово, прежде чем оно взлетело к потолку.
– Джослин!
И он понял, что его час пробил: и ему показалось, что умирать легко – так же как есть, пить, спать, всему свое время.
И, поняв это, он словно обрел свободу, и мысли его понеслись вскачь, как лошадь, с которой сняли узду. Он поднял глаза, чтобы узнать, принес ли ему этот последний час избавление от колдовства: но там, среди звезд, сверкали спутанные волосы, и к ним возносилась громада шпиля. «Вот и все, – подумал он, – вот и объяснение, но только теперь уже поздно». И он шепнул отцу Адаму одно слово:
– Вероника.
Улыбка на лице стала растерянной и тревожной. Потом оно прояснилось.
– Святая?
И тело, измученное слабостью и борениями, попыталось выдавить из груди смех; но он тотчас унял этот смех, боясь выпасть из жизни, потерять равновесие, как канатоходец; он вдруг почувствовал любовь к отцу Адаму, захотел что-нибудь ему подарить и, когда обрел равновесие, шепнул еще одно слово:
– Святая.
А смерть не так нелепа, как жизнь, потому что нет ничего нелепей этого раздираемого ужасом комка, который, как язычок гаснущего огня, трепещет под ребрами.
– Джослин.
«Это он меня зовет», – подумал Джослин и посмотрел на отца Адама со спокойным любопытством, потому что отец Адам тоже умирал и завтра или в какой-нибудь другой день чей-то голос вот так же скажет ему: «Адам», – будто ребенку. Как бы высоко он ни вознесся, какое бы ни носил облачение, завтра или в другой день этого гладкого, как пергамент, лба трижды коснется серебряный молоточек. А потом мысли снова понеслись вскачь, и он увидел, какой странный человек этот отец Адам, с головы до ног обтянутый пергаментом, то гладким, то морщинистым, и сверху так смешно торчат волосы, а внутри – чудовищный костяк, на котором распят пергамент. И тут же, словно во сне, который скрыл от него это лицо, он увидел весь род людской в его наготе – коричневатый пергамент, натянутый на костяные остовы и скелеты. Он увидел, как люди, прикрытые тканью, переступают ногами, вышагивают подошвами из звериных кож, и мучительным усилием, задыхаясь, попытался облечь это свое видение в слова, которые не прозвучали никогда:
«В своей гордыне они возмечтали об адском пламени. Ничто не совершается без греха. Лишь Богу ведомо, где Бог». Руки уложили его, и он провалился в пустоту. Но страх заставил его снова вынырнуть и испить чашу до дна.
– Теперь, Джослин, мы облегчим тебе путь на небо.
«Небо, – подумал Джослин, охваченный страхом. – Ты, который сейчас держишь меня и умрешь не сегодня, что знаешь ты о небе? Небо, ад, чистилище – крошечные и блестящие, как украшение, которое прячут и носят лишь по праздникам. А я умираю в серый, будничный день. И что мне небо, если мне невозможно подняться туда вместе с ними, держа за руку его и ее?
Смириться?
Я променял четверых людей на каменный молот».
Вдруг он почувствовал, что надо вцепиться в воздух зубами, мертвой хваткой. Руки приподняли его, посадили, и грудь сама, без его помощи, набрала воздуху. И страх покинул грудь, но витал вокруг.
Сквозь страх на него глядели два глаза. Кроме них, в мире не было ничего прочного, и под их взглядом он был как дом, готовый рухнуть. Они смотрели на него в упор, око в око, око за око. Он снова вцепился зубами в воздух и сам погрузился глазами в эти глаза, потому что, кроме них, в мире не было ничего прочного. Два глаза слились в один.
И теперь перед ним было окно, распахнутое, залитое светом. Что-то рассекало его. Какая-то черта, а вокруг была синева неба. Недвижная и неслышная, эта черта с безмолвным криком возносилась ввысь, куда-то в самое небо. Она была тонкая, девически нежная и прозрачная. Ее взрастило семя, неведомое розовое вещество, искрившееся, как водопад, но водопад, устремленный снизу вверх. И лишь одно это вещество врывалось в саму беспредельность ликующими каскадами, которые ничто не могло удержать.
Страх кружил и рвался наружу, он вдребезги разбил окно, и осколки задрожали в каждом его глазу, но ни страх, ни слепота не могли затмить ужаса и удивления.
«Теперь… я ничего, ничего не знаю».
Но руки заставляли лечь вихрь ужаса и удивления, лечь, лечь. Мысли ослепительно вспыхивали во тьме. Самые камни вопиют.
«Верую, Джослин, верую!»
Что такое страх и радость, почему они смешались, слились воедино и сверкают, мчатся сквозь потрясенную ужасом тьму, как птица над водой?
– С кротостию приемлешь…
Захлестнутый волной, он летел птицей, рвался, кричал, вопил, стремясь оставить после себя волшебные и таинственные слова:
– Как яблоня!..
Отец Адам склонился над кроватью, но не услышал ничего. Он видел только, как дрогнули губы, и истолковал это как моление: «Господи! Господи! Господи!» И по милосердию, которое было ему дано творить, он положил на язык усопшего святые дары.
dia mater – Матерь богов (лат.)
Из детской песенки «Гвоздь и подкова». Перевод С.Маршака.
Ознакомительная версия.