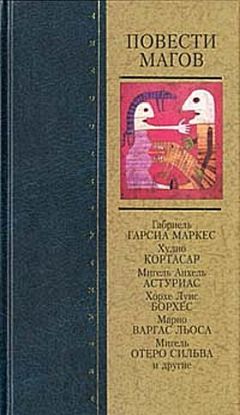Ознакомительная версия.
Любовь фрау Клейст
Позавчера позвонила фрау Грета и попросила, чтобы Алеша съездил с ней на остров Бальтрум, где у нее пустует дом, который зачем-то понадобилось срочно продать. Алеша согласился. Мы с ним все это время не разговариваем. И так даже лучше.
Утром они уехали. Я вернулась из университета, куда пошла нарочно проверять зачетные работы, лишь бы не сидеть одной дома, попробовала поспать хоть немного, но ничего не вышло. Вечером я выпила красного вина — дети были в гостях на дне рождения и там остались ночевать — и позвонила ему домой. Подошла женщина, я бросила трубку. А если бы подошел он?
Какая теперь разница? Ничего нет и не будет. Я думала, что Алеша меня убьет, лицо у него стало красно-сизым, глаза выкатились из орбит, но он вдруг опустился на пол и крепко заснул. Я слышала о такой реакции, она считается защитной. Но как же все-таки попала ему в руки эта бумажка? Я ведь точно знаю, что спрятала ее. Он никогда не притрагивается к моим книгам и тетрадкам, вообще не подходит к моему столу.
Самое лучшее нам с ним развестись, но мне кажется, что он меня не отпустит. От него всего можно ожидать.
Сижу в темноте на кухне, пью вино и записываю все, что приходит в голову. Мне так легче. Получается, что я с кем-то разговариваю. Не знаю, разберу ли сама потом, что в темноте накорябала.
Никто не знает, кроме меня: Алеша на мне помешан. Сначала он был помешан на своей умершей дочке, а потом я ее заменила. Он иначе не может. Сережу он, конечно, любит, но обыкновенной любовью, а когда дело доходит до меня, тут совсем другое. И я всегда от этого страдала. Мне не хватало воздуха. Я это поняла давно, еще до рождения Сережи, и тогда нужно было убежать от него, а я смалодушничала.
Мы однажды поехали на дачу, и там было так хорошо! Особенно запах клубничного варенья, которое варили на соседнем участке. И я почему-то начала рассказывать, что ничего не было в моей жизни лучше, чем летние детские месяцы на этой даче, особенно когда за мной начали ухаживать мальчики, которые вились у нашего забора, как пчелы над цветами. Одного из них я и до сих пор вижу перед глазами. Прелестный был мальчик, высокий, светловолосый, как викинг, с васильковыми глазами. С этим васильковым викингом мы гуляли по вечерам, держась за руки.
Не успела я досказать, как Алеша взорвался:
— Знаю я эти прогулки!
Ушел, хлопнул дверью, его целый день не было. Потом еще долго смотрел серым волком. Да, он странный человек, но не в нем теперь дело. Слава богу, что старуха его увезла: хоть три дня побуду одна, подумаю.
Где мой эфиоп? Почему меня бросил? Э-эй! Где ты, бамбино! А как хорошо: вошел бы сейчас в комнату, закрыли бы дверь, и было бы счастье. Какая мне разница: наркоман он или нет? Да хоть убийца!
Я, кажется, напилась. Ну, все. Больше писать нечего. Пойду посплю. Завтра такого кайфа уже не словишь: дети вернутся. Ну, чао, бамбино, сорри. Повеситься хочется.
8 марта
Вера Ольшанская — Даше Симоновой
Вчера в переходе купила у какой-то старухи пакетик сухого шиповника. Она мне сказала:
— Бери, бери, дочка! На шиповнике наша Богородица своему Сыночку пеленки сушила!
Гришу выписывают в пятницу.
* * *
То, что она выговорила утром, стоя на пороге его дома — пока стыло небо над лесом и всадница мягко качалась в седле, — не принесло никакого облегчения. Может быть, если бы Даша видела ее и ей бы сказала все это в глаза, взорвался бы крепкий нормальный скандал, и они расползлись бы по своим домам — по темным и продрогшим берлогам зализывать раны, — тогда, может, Даше и стало бы легче. А так?
Она никогда не скажет Андрею о том, что было. Скорее умрет. Хотя это был замечательный козырь. «Смотри, твоя блядь ко всему хулиганка!» Этого она не сделает, как ни разу за все эти годы не сделала ни одного прямого и твердого шага.
«Я ему сама скажу. Он позвонит, и я скажу ему, где я была утром. И еще я скажу ему, что вся эта гадость, весь этот позор, ложь, унижение, через которое я прошла и прохожу благодаря их трусости и лживости, все это обрушилось на мою девочку, она заплатила за это, а он по-прежнему ни за что не отвечает и ничего не чувствует. И я презираю его. Во мне ничего не осталось. Одно отвращение только. Зачем я вернулась?»
Ей стало казаться, что все эти три года в Миннеаполисе она бессмысленно накручивала себя, внушала себе эту незатихающую любовь, эту тоску, которой на самом деле давным-давно не было, а была просто звериная привязанность к его телу, лицу, запаху, голосу, но разве за эти дела платят ребенком!
«Да, я ненавижу вас всех», — думала Даша, стоя вечером под душем и стараясь не смотреть на свое голое тело. — Да я и тебя ненавижу».
Ей было странно, что он не позвонил за весь день, но, может быть, и лучше, что он не позвонил, потому что то, что она собиралась сказать ему, должно было устояться в ней, затвердеть, как вода при минусовой температуре, и тогда — без крика, без слез — в ледяном блаженстве принятого решения она поставит точку.
Он думал, что я буду вечно терпеть, что можно играть мной, как куклой, и можно сидеть на двух стульях. А главное — можно любить тех детей, а этим ребенком пожертвовать.
Ночью она поднялась, вошла в Нинину комнату и постояла над нею, спящей, послушала ее тихое дыхание. Нина спала глубоко и неуверенно улыбалась во сне. Даша опустилась на пол перед кроватью, положила голову на подушку рядом с кудрявыми волосами. Она чувствовала, как гнев, колотивший ее, сменяется страхом и нежностью.
За окном с его незадернутыми шторами стояла чернота, над которой, слабый и прозрачный, как детский заусенец, висел полумесяц, и звезды, еле уловимые внутри небесной черноты, казались тихой лесной мошкарой, собравшейся в дымные пятна.
И чем дольше смотрела она на это небо со срезанной детской полосочкой кожи, чем глубже впитывала в себя ровное и теплое дыхание Нины, неуверенно улыбавшейся во сне, тем нелепее представлялось ей все, что она собиралась сказать ему. Злоба ее таяла, как остатки мокрого снега на улице.
И он, и его дети были, оказывается, надежно защищены от Даши чем-то, что существовало вне их и прощало им те ошибки, которые они совершили. Невидимый, но плотный покров согревал их головы, и сейчас, когда Даша рванула его на себя с тем, чтобы лишить их защиты, произошло какое-то еле заметное, совсем незначительное движение то ли внутри этих слабых звезд, а то ли еще где-то глубже, и Даша смирилась.
12 марта Вера Ольшанская — Даше Симоновой Я возвращаюсь домой в субботу. Гриша остался в Москве.
…
Любовь фрау Клейст
Время, оказывается, пощадило всех: и море, и берег, и старую пристань. И когда фрау Клейст, опираясь на руку возлюбленного ею Алексея Церковного, спустилась по трапу, она поняла, что на Бальтруме все то же самое. Идет Рождество, рассыпаясь огнями. Весь остров в огнях, и порывистый ветер несет их навстречу воде.
С сиреневым от холода подбородком, с темной помадой на нижней губе, фрау Клейст всматривалась в ту женщину, которая тридцать шесть лет назад вот так же спускалась по трапу. На ней был тогда бирюзовый берет. Она уже красила волосы.
Ах, Бальтрум! Meine lieber Baltrum![14] Фрау Клейст почувствовала, как она берет мальчика под руку. Рукав слегка влажен, а сама рука так горяча, что прожигает ее ладонь через шерсть тонкого свитера. Ресницы его были детскими, ноздри мужскими. Они раздувались, когда по утрам фрау Клейст дотрагивалась до него, еще спящего, всем своим телом.
Сейчас она даже не знает, жив ли он? Несколько раз фрау Клейст видела во сне его мать — ту вспыльчивую испанку с темным пушком на пальцах, у которой тоже раздулись ноздри, когда фрау Клейст, обескровленная абортом, опустила свою подкрашенную голову так низко, что подбородок ее почувствовал холод бледно-голубой камеи, приколотой к воротнику.
Ну, мать-то, скорее всего, умерла. Такие — с пушком на руках и ноздрями, — они не живут здесь подолгу. Наверное, и он тоже умер. Трудно сказать, почему фрау Клейст была почти уверена в его смерти: ведь он был намного моложе.
Она посмотрела на Алексея Церковного. Он стоял рядом, осторожно поддерживая ее за локоть. Лицо его было неподвижным, и сейчас, в темноте, полной вспыхивающих то здесь, то там рождественских огней, оно показалось ей чужим, грубоазиатским, с припухшими веками и обветренными твердыми губами, в которых чувствовалось пренебрежение к ней, не нужной ему старой женщине.
А Альберт, когда они так же стояли на пристани, шептал ей: «Скорее домой!»
Дом был основательным, крепким, слегка пахшим пылью и сыростью. До прошлого года в ней жила племянница Франца с двумя детьми, в апреле они съехали. Теперь этот дом нужно было продать.
Ознакомительная версия.