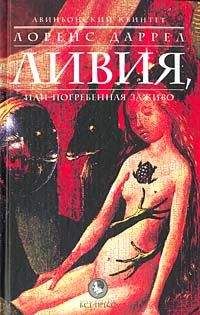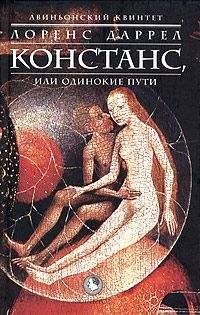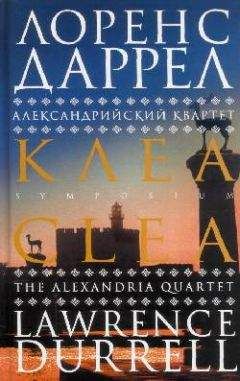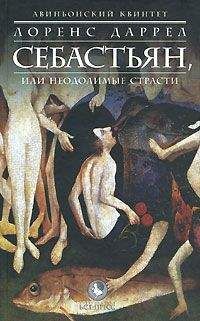Схватив Блэнфорда за плечи, он стал трясти его с такой яростью, что у того все выпитое за вечер едва не изверглось наружу, невероятным усилием воли он подавил позыв и вырвался.
Катрфаж снова плюхнулся на кровать и с угрюмым видом подпер кулаками подбородок.
— Вот что меня убивает, — проговорил он чуть спокойнее, уже менее трагическим голосом, — подлость того, что мы делаем, и то, что я сам в этом участвую.
Блэнфорд на эти откровения отреагировал так, как и должен был отреагировать питомец типичной закрытой частной школы с ортодоксальным христианским воспитанием: он ощутил робость, страх, даже шок. Он проклинал себя за идиотскую болтливость. До чего довел человека! Сидеть и смотреть, как Катрфаж покаянно колотит себя в грудь, — сомнительное удовольствие. Но если бедняге так противна его работа, почему он от нее не откажется? Отличный способ достичь душевного равновесия, Блэнфорду это было хорошо известно. Подавив вздох, он уселся на стул, и приготовился слушать исповедь клерка.
— Согласился я из сугубо меркантильных соображений, но потом меня все сильнее стали привлекать сами тамплиеры — не их богатства, а суть их ереси. Как они бросили вызов власти материализма, как вводили в конфуз правившего миром дьявола — вот что не давало мне покоя. Ну да, они потихоньку становились несокрушимыми светскими властителями — они, по сути дела, были главными банкирами той эпохи. Основной опорой этой мощной власти были банки и тюрьмы.
Катрфаж вяло махнул рукой в сторону папских дворцов, стоящих высоко над рекой, которые тоже начинали розоветь, лепесток за лепестком, шпиль за шпилем.
— Рыцарей методично уничтожили прятавшиеся под капюшонами мясники из Инквизиции, чтобы сохранить существующий порядок, а ведь знали, что это ипостась зла: первичность материи и волевого начала в нашей юдоли. Эти живодеры были орудиями самого Старика Ника,[136] который боялся, что трон его пошатнется из-за благородного противостояния рыцарей; нет, он не желал сдаваться без борьбы. Жажда смерти против жажды жизни. А Бог, знаешь ли, только алиби, всего лишь прикрытие, будто нет этой борьбы. Но то была кровавая схватка зла и добра — и вся Европа еще несколько веков была поставлена на карту. — Он облизал пересохшие губы и судорожными глотками осушил снова налитый стакан виски. — Они проиграли, а вместе с ними и мы, — почти шепотом произнес он.
Катрфаж и Блэнфорд секунд пять пытливо всматривались друг в друга, потом Катрфаж горько усмехнулся и, склонив набок голову, полуприкрыл глаза — как птица, прячущая голову под крыло.
— Я знаю, почему ты так смотришь на меня, — сказал он. — Считаешь, что это глупо и нелепо — так переживать из-за давно минувших исторических драм. Ты, конечно, прав. Но наша судьба, судьба современных европейцев, решалась именно тогда — причем здесь, в Авиньоне. Мы тоже принимаем участие в похоронах живого человека, бросаем его в могилу материализма. Ну да, тамплиеры были побеждены, и непроницаемые облака пропагандистской лжи накрыли их, чтобы правда не вышла наружу, чтобы очернить их имена навеки. Членов ордена обвинили во всех видах колдовства, хотя единственное, в чем они были повинны, так это в твердом нежелании продлевать великую ложь, на которой зиждется цивилизация. Несмотря на приказ. Естественно, им приходилось держать свои крамольные мысли в глубочайшей тайне, ибо это была ересь, если пользоваться термином той эпохи.
Наконец он замолчал. А Блэнфорд все не сводил глаз с огромных карт на стене, там он высмотрел и архитектурные планы разных замков тамплиеров, и соответствующие топографические схемы. Он пришел к выводу, что юный фанатик, в сущности, совершенно безобиден, просто забил себе голову разными спекуляциями на мистицизме, сейчас это очень модно. «Роза и крест», магические пропорции Великой пирамиды, мадам Блаватская… Блэнфорд и сам неплохо знал все это, прочитал кое-какие книжки — но отнюдь не сходил с ума от этих безусловно занимательных фантазий.
— Какая разница, есть сокровище или нет сокровища? — со страстью воскликнул Катрфаж, снова проснувшийся, чтобы закончить свою исповедь. Бах-бах! — Добавить богатенькому Галену еще немного fric? Лично мне кажется, нет никаких сокровищ; я думаю, Филипп Красивый получил все сполна. Я никому об этом не говорил, потому что не знаю наверняка. Но наши поиски квадрата с пятью деревьями должны вывести нас к другому сокровищу. Вот во что я верю. Но с кем об этом говорить? Не с кем! Не с кем!
И он снова принялся истязать кулаком свою кровать, пока жалобно не заскрипели пружины. Катрфаж вспомнил мучительные подробности собственного отступничества, собственного отречения от тела Христова, от этого тотема… в духе каннибалов, и он задохнулся от нахлынувшего вдруг чувства несостоятельности, убогости. И застонал.
— Кажется, я кое-что понял, — не без важности произнес Блэнфорд. — Ты ведь имеешь в виду философский камень, правильно? — Однако клерк, погруженный в свои грезы, лишь рассеянно кивнул, истина интересовала его гораздо больше, чем слова Блэнфорда. — Надеюсь, ты не журавлика в небе решил изловить? Или, скажем, радугу?
Можно было даже и не спрашивать. Катрфаж что-то бормотал себе под нос, уже спокойно, без прежней неистовости, многозначительно и покорно кивая головой. Потом он улегся на бок, осторожно обхватив голову ладонями, словно это была голова мраморной римской статуи, и заснул. Некоторое время Блэнфорд с любопытством и сочувствием смотрел на него: в столь слабом теле пылал могучий неистовый дух. Но теперь, когда Катрфаж угомонился и заснул, уткнувшись носом в подушку, он выглядел совершенно беззащитным. Какие тоненькие у него запястья. Поскольку свет был уже выключен, то Блэнфорду ничего другого не оставалось, как на цыпочках выйти из комнаты и спуститься по скрипучей лестнице.
Он задержался у стойки, чтобы шепотом попрощаться с сонным ночным портье, убиравшим свое временное ложе, а потом направился к холодной реке под мостом, которая мчится прочь из просыпающегося города, в сторону зеленой гряды холмов. Он вдруг ощутил прилив сил, захотелось поскорее добраться до Ту-Герц. В это радостное утро все сияло, как новенькие монеты — только что отчеканенная валюта свежих впечатлений. Он чувствовал, как начали копошиться в голове слова, словно пробывшие в долгой спячке зверьки, наконец разбуженные запоздалой весной. Слова, рожденные красотой зеленой бурливой реки и холмов, утыканных копьями кипарисов. Чтобы по-настоящему что-либо оценить, пейзаж, дом, пли время, в нем проведенное, — извлечь из них самую суть — надо взглянуть на них через призму расставания. Все вокруг было окрашено оттенком прощания, наполнено тенью ностальгии, столь важной для молодого художника.
Блэнфорд чувствовал, как в нем просыпаются соблазны родного языка, будто пробуют себя мускулы, затекшие после долгого бездействия. Как сохранить это ощущение счастья, столь восхитительно полное, и что с ним делать дальше? Приближаясь по неухоженным лужайкам к дремавшему дому, он на каждом шагу давил капельки росы, и сырость просачивалась в теннисные туфли. На циновке возле огорода сидела черная кошка — точно такая же, как в его первой детской книжке. Но самое удивительное ожидало его впереди; из-под сбившихся простыней, скрывавших тайну обнаженного тела Ливии, была видна лишь узенькая кисть с длинными, сонно поникшими пальцами — один был с желтым пятном от сигарет. Торопливо раздевшись, Блэнфорд улегся рядом со спящей, одурманенной наркотиками нимфой и, радуясь, что не разбудил ее, стал всматриваться в тонкое выразительное лицо, на редкость обаятельное и отмеченное истинной гармонией.
Он пытался проникнуть взглядом внутрь, разгадать тайну колдовства, которое преобразило этот лик. Он сознавал, что видит не самое Ливию, а лишь собственное представление о ней — отражение его любви. Рядом с кроватью стояла маленькая коробочка с дешевым обручальным кольцом, которое он купил в Лунеле у старой еврейки, торговавшей в киоске лотерейными билетами и принимавшей ставки. Блэнфорд тихонько надел тоненький ободок на покорный пальчик и — вот сентиментальный дурак! — поцеловал его. Потом он взял ее, потому что она шепотом потребовала этого, хотя не открыла глаза и даже не шевельнулась; он сам разъял ее безвольное тело, послушное, как «манекен» на шарнирах, которым пользуются художники и портные.
Охваченные блаженством, они как будто плыли вместе по длинной реке, слившись воедино, плыли к далекому морю — к бездонному морю счастливого забытья. Чтобы ее не тревожить, Блэнфорд, взяв одеяло, выскользнул на балкон. Роса на каменных плитках почти высохла, и он, свернувшись калачиком, сунул под голову влажное полотенце. От усталости он тотчас задремал, и целая галерея потрясающих видов Прованса раскрутилась в его памяти, словно гигантская бобина. Накопилось так много воспоминаний, что он решительно не представлял, что с ними делать. Услыхав шорох в комнате, Блэнфорд приподнялся на локте и заглянул внутрь. Ливия, еще не совсем проснувшаяся, сидела на кровати; но молодой человек не был готов к тому, что нечаянно подсмотрел… Она с ужасом и брезгливостью — Блэнфорд никогда еще не видел у нее такого лица — рассматривала свой окольцованный палец. С подобной гримасой смотрят на скорпиона, вдруг обнаруженного на лацкане пиджака. С ее губ сорвалось: