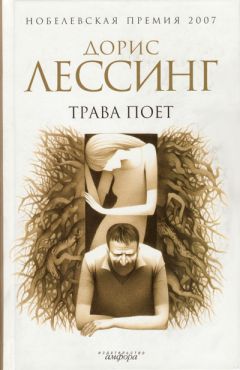Мэри услышала странное злобное бормотание и поняла, что это ее собственный голос, это она разговаривает сама с собой на ходу. Женщина прижала ладонь ко рту и затрясла головой, чтобы в ней прояснилось. К тому моменту, как Мозес вернулся на кухню и Мэри услышала его шаги, она уже сидела в гостиной, окоченев от переполнявшей ее ненависти. Она была на грани истерики. Она вспоминала мрачный, возмущенный взгляд туземца, который замер, ожидая, когда хозяйка уйдет, и Мэри казалось, что она дотрагивается рукой до змеи. Приведенная в движение столь бурной реакцией на случившееся, Мэри, преисполненная волнением, отправилась на кухню. Там в чистой одежде стоял туземец. Он как раз убирал губку и мыло. Ее будоражили воспоминания о белой пене, поблескивавшей на толстой шее, о мощной спине, склонившейся над ведром. Мэри совершенно не осознавала, что для ее ярости и истерики нет никаких [275] оснований, и она никак не могла объяснить их причины. Суть заключалась в том, что сейчас Мэри не могла придерживаться формальной модели отношений «хозяйка—слуга», «белый—черный», поскольку ее связывало с этим туземцем нечто личное; а когда белый человек в Африке заглядывает в глаза черному и различает перед собой человеческое существо (а именно этого в первую очередь и надо избегать), чувство вины, существование которого белый отрицает, выливается в возмущение, и он опускает кнут. Мэри почувствовала: надо немедленно что-то сделать, чтобы вернуть самообладание. Случайно ее взгляд упал на коробку из под свеч, стоявшую под столом, где хранились щетки и мыло.
— Выскреби пол, — велела она работнику.
Мэри была потрясена, услышав собственный голос, поскольку сама не догадывалась, что собиралась открыть рот. Порой в ходе самой обычной беседы — спокойной и полной банальностей — один из собеседников вдруг делает неожиданное замечание, например по ошибке ляпнув то, что он вправду о вас думает, и в результате, будучи в замешательстве, вы теряете равновесие, отчего издаете нервный смешок или произносите в ответ фразу, от которой всем присутствующим становится неловко. Именно это сейчас и произошло с Мэри: [276] она утратила душевное равновесие и не отдавала себе отчета в том, что делает.
— Я отскреб пол утром, — медленно ответил туземец и поднял на нее глаза, в которых тлел огонь.
— Выскреби, тебе сказано. Немедленно, — произнесла она, повысив голос на последнем слове.
Несколько мгновений они взирали друг на друга, не скрывая своей ненависти, а потом слуга опустил глаза, и Мэри вышла, захлопнув за собой дверь.
Вскоре из-за двери она услышала, как туземец елозит мокрой щеткой по полу. Мэри плюхнулась обратно на диван без сил, так словно она была больна. Она знала, что подвержена беспричинным вспышкам гнева, но никогда прежде приступы ярости ее так не выматывали. Она вся тряслась, в ушах стучала кровь, а во рту пересохло. Через некоторое время, кое-как взяв себя в руки, она отправилась в спальню выпить воды. Ей не хотелось видеть туземца по имени Мозес.
И все же чуть позже она заставила себя подняться и отправиться на кухню. Встав на пороге, она стала разглядывать испещренный полосами влажный пол, словно бы и вправду пришла проверить выполненную работу. Мозес, как обычно, стоял неподвижно, сразу за [277] дверью, устремив взгляд на груду валунов, туда, где поднимался молочай, раскинув серо-зеленые ветви на фоне ярко-голубого неба. Мэри сделала вид, что заглянула за шкафы, после чего произнесла:
— Пора накрывать на стол.
Он расправил скатерть и принялся медленно, неуклюже расставлять приборы, казавшиеся игрушечными в его огромных руках. Каждое его движение' вызывало у Мэри раздражение. Она сидела стиснув руки, напряженная как струна. Когда слуга вышел, она немного расслабилась, словно у нее гора с плеч свалилась. Стол был накрыт. Мэри решила проверить, все ли на месте, но придраться было не к чему. Тогда она взяла стакан и отнесла его в заднюю комнату.
— Посмотри на этот стакан, Мозес, — потребовала она.
Туземец подошел к хозяйке и спокойно на него поглядел: он только делал вид, что смотрит, поскольку уже взял его из ее рук, собираясь помыть. У самого дна с одной стороны осталась маленькая пушинка от полотенца, которым Мозес протирал стакан. Туземец, как его и учили, налил в раковину воды, взбил мыльную пену и вымыл стакан. Все это время Мэри не спускала с него глаз. После того как Мозес протер стакан, она забрала его у него и отнесла в гостиную.
[278]
Она представила, как он снова безмолвно замер у двери, подставив тело солнцу и устремив взгляд в никуда, и чуть не закричала, едва удержавшись от того, чтобы запустить стаканом в стену и увидеть, как во все стороны брызнут осколки. Мэри больше не могла придумать ему ни одного, буквально ни одного поручения. Она стала тихо рыскать по дому: все было потертым и выцветшим, но при этом чистым и на своем месте. Кровать, супружеское ложе, которое она всегда ненавидела, была аккуратно застелена и не смята, а уголки одеяла отвернуты в сторону, являясь смелым подражанием картинкам из последних каталогов. При виде кровати Мэри заскрежетала зубами, вспомнив о ночах и прикосновениях мускулистого тела усталого Дика, тела, к которому она так и не смогла привыкнуть. Она резко отвернулась, сжав кулаки, и неожиданно увидела собственное отражение в зеркале. Увядшее, опухшее, покрытое пятнами лицо, взъерошенные волосы, губы, поджатые от ярости, глаза, полыхающие пламенем, — Мэри едва узнала саму себя. Потрясенная, преисполненная жалости к самой себе, она долго взирала на собственное отражение, а потом зарыдала, захлебываясь, дрожа, пытаясь не поднимать шума из опасений, что ее услышит Мозес. Неко- [279] торое время она проплакала, а потом, подняв глаза, чтобы утереть слезы, увидела часы. Вскоре должен был прийти Дик. Страх, что муж застанет ее в таком виде, наполнил холодом содрогающееся тело. Она умылась, причесалась, припудрила потемневшую морщинистую кожу вокруг глаз.
Обед, как и всегда в последнее время, прошел в молчании. Дик увидел ее покрасневшее, покрытое морщинами лицо, налитые кровью глаза и понял, что произошло. Мэри всегда плакала после скандалов, которые закатывала слугам. Однако сейчас Дик чувствовал лишь усталость и разочарование, с последней ссоры прошло довольно много времени, и он уже начал думать, что Мэри начинает постепенно оправляться от болезни. Женщина сидела понурившись и ничего не ела, а туземец двигался как робот, послушно выполняя все обязанности, но при этом витая мыслями где-то далеко. Однако, поскольку Дик знал, какой старательный этот туземец, он решил заговорить с заплаканной женой. Когда туземец вышел из гостиной, Дик произнес:
— Мэри, этого работника надо оставить. Он лучший из всех, кто у нас был.
Даже теперь жена не подняла глаз, а продолжала неподвижно сидеть, будто бы лишив [280] шись слуха. Дик заметил, как у нее дрожит тонкая рука, покрытая морщинами от солнца. Наконец, прервав молчание, он снова заговорил, зло, ожесточенно:
— Я больше не могу позволить себе менять слуг. С меня довольно. Я тебя, Мэри, предупредил.
И снова она ничего не ответила. Мэри была слаба после того утреннего приступа ярости и слез, которые затем пролила. Сейчас она опасалась, что снова заплачет, если откроет рот. Муж взглянул на нее в некотором изумлении, поскольку, как правило, она обязательно резким голосом выплевывала жалобу либо на совершенную слугой кражу, либо на его плохое поведение. Дик был готов ее выслушать. Однако упорное молчание, в котором читалось полное нежелание ему подчиняться, вынудило Дика заставить жену с ним согласиться.
— Мэри, — произнес он тоном начальника, обращающегося к подчиненному, — ты поняла, что я сказал?
— Да, — с трудом, угрюмо наконец произнесла она.
Как только Дик ушел, она тут же отправилась в спальню, чтобы не видеть, как туземец убирает со стола, и погрузилась в долгий сон.
[281]
Так тянулось время, август сменился сентябрем, шли дни, жаркие, подернутые дымкой. С окружавших долину гранитных холмов лениво дул ветер, принося с собой пыль. Мэри занималась делами, словно погрузившись в сон: теперь ей требовались часы, чтобы справиться с тем, на что прежде уходило несколько минут. Она выходила из дому без шляпы, чувствуя, как жестокие солнечные лучи впиваются ей в спину и плечи, одурманивая, вводя в ступор. Порой женщине казалось, что она вся покрыта ссадинами и кровоподтеками, чудилось, будто солнце пожрало ее плоть и теперь тянется к ноющим костям. Почувствовав головокружение, Мэри останавливалась и отправляла слугу за шляпой. Потом с облегчением, словно долгое время занималась тяжелым физическим трудом, а не бродила бесцельно среди кур, не замечая их, плюхалась в кресло, где и сидела неподвижно, ни о чем не думая. Однако ее по-прежнему тяготила остававшаяся где-то на задворках сознания мысль о том, что она один на один в пустом доме с Мозесом. Мэри была по-прежнему собранной, покуда могла подыскивала ему работу, беспощадно придираясь к каждой пылинке, к каждой тарелке и стакану, которые [282] оказывались не на месте. Она помнила о том, как Дик раздраженно предупредил ее, что он больше не может себе позволить менять слуг. Мэри знала, что у нее нет сил идти против его воли, и поэтому чувствовала себя нитью, туго натянутой между двумя непоколебимыми точками. В ней шла борьба двух соперничающих друг с другом, равных по мощи сил, удерживающих ее в состоянии равновесия. Однако что это были за силы и как она удерживала их в себе, Мэри объяснить не могла. Мозес хранил спокойствие, относясь к хозяйке равнодушно, так словно она и не существовала вовсе, разве что приказы ее выполнял; некогда добродушный, Дик, которому в прошлом было легко угодить, теперь постоянно жаловался на то, что Мэри плохо ведет хозяйство: действительно, она своим обычным нервным громким голосом придиралась к работнику из-за того, что стул был сдвинут с места на два дюйма, при этом не замечая, что весь потолок зарос паутиной.