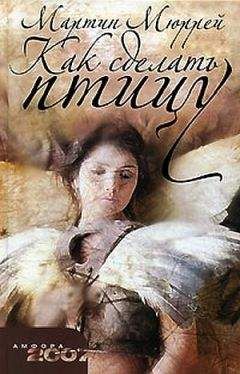— М-м-м. — Я не могла выдавить ни слова. Я видела, как слова формируются в моем сознании, как они, подобно маленьким насекомым, впиваются в какой фрукт. В большой, спелый, мягкий фрукт. Я услышала свой глубокий вдох. Такой долгий. Наверное, на него ушло несколько минут. Мои веки отяжелели, я не могла их разлепить.
— Если хочешь, спи здесь. На кушетке. У меня есть одеяло, — предложил Трэвис.
Я услышала, как пробормотала: «Хорошо». Дым заполнил мое измученное сознание, он петлял, как почерк маленького ребенка. Вино. Моя мама. «Ее снова кусает ветер. Гайки не закручены». Она так и не сказала нам, что звонила Эдди. Она позволила Гарри прикрыть ее собой. Гарри Джейкоб. Ее снова кусает ветер. Ее бьет Трэвис Хьюстон. Трэвис смотрел на меня. Трэвис нехорошо на меня смотрел. Трэвис встал.
Он дал мне одеяло и вышел из комнаты.
Мне снилось, что мы с Эдди стоим в очереди. Мы куда-то ехали. Люди за стойкой разрешили Эдди пройти, потому что у него был правильный билет, а у меня был неправильный. Я рылась в сумочке, искала какой-нибудь другой билет, или паспорт, или еще что-нибудь, а Эдди проходил в двойные двери. Он уплывал на пароходе. Я нервничала. Я хотела плыть вместе с ним, но меня не пускали.
Не знаю, сколько я спала. Может, всего один час или около того. И я проснулась не сама, меня что-то пробудило. Точно как в ту ночь, когда я почувствовала, что на моей кровати сидит папа. Только в этот раз это был не папа.
Было все еще темно, но я смогла различить громаду Трэвиса, нависшего надо мной. Я не могла разглядеть его лицо, видела только черный смутный силуэт. Пол стонал под тяжестью его тела.
«Что такое?» — спросила я.
Он ничего не говорил, и мне не нравилось безмолвие, которое от него исходило. Мне хотелось, чтобы он подал голос и прекратил быть этой темной дышащей громадой, этой готовностью. Конечно же, как только появятся слова, маленькие обычные слова и объяснения, выскочат прямо из воздуха, хлоп — и они уже здесь, тогда тугое смертоносное безмолвие будет разрушено, зажжется свет, все пугающие силуэты вокруг меня снова станут кушетками, светильниками, керамическими грудями, обычными вещами.
Он положил руку мне на ногу, но по-прежнему не издавал ни звука.
«Трэвис?» Я приподнялась, собираясь сесть, чтобы мы оба окончательно проснулись и спокойно во всем разобрались. Может быть, он лунатик и ходит во сне. Он наклонился ко мне. Я не понимаю, что случилось потом — то ли его руки ко мне потянулись, то ли мое тело подпрыгнуло. Его руки, как клешни, впились в мои плечи. Его колено вдавилось в мои бедра. Я испытала приступ ужаса, настоящего ужаса. Я знала, что происходит. Была ночь, на мне был Трэвис. Он пытался вести себя сексуально. У него омерзительно пахло изо рта. Я отвернулась.
«Что, черт возьми, ты делаешь?» Я прекрасно понимала, что он делал, но я хотела дать ему шанс красиво выйти из положения, притвориться, что он ошибся. Его рот прижимался к моей шее, его влажный, похожий на червя язык. Я вся выгнулась. Он не сказал: «Извини, Манон, я просто упал». Он сказал: «Все нормально, Манон. Я не сделаю тебе больно. Будет хорошо. Тебе понравится. Ну давай же, расслабься».
Он говорил приглушенным сладким голосом, никогда раньше я не слышала, чтобы он так говорил. Он не был обычным Трэвисом. Я подумала о том извращенце. И о Рут Уорлок. Я знала, что в этой ситуации он не будет вести себя хорошо.
«Слезь с меня, Трэвис». На этот раз я даже не пыталась сохранять вежливость. Его тело лежало на мне и давило на меня; и оно не просто там лежало, оно сверху нажимало на меня, будто он хотел сокрушить мои кости. Я была им придавлена. Его руки быстро двигались, он стягивал с меня красное платье. Я не хотела, чтобы с меня таким вот образом стягивали мое красное платье. Я натягивала его обратно на себя, а он его снова стягивал. Это было нелепо. Мной овладела ярость, ведь это было мое платье и мое тело, а он вел себя так, будто они принадлежали ему. Я заорала на него, я потребовала, чтобы он слез, но он только повторял и повторял: «Ш-ш-ш, ш-ш-ш, тебе понравится, тебе понравится». Мне это ни чуточки не нравилось. Это было мерзко. У него были противные руки. Я не могла их остановить, они рыскали у меня под платьем, как будто я украла миллион долларов и там, под платьем, спрятала деньги.
Поэтому меня нельзя винить в том, что случилось дальше. Это сделала не столько я, сколько моя рука. Моя рука, которая ответила на действия рук Трэвиса. Моя левая рука, если быть точной. Она потянулась к столу, пошарила среди пустых бутылок, схватила одну из них, и затем я смогла проследить, как рука опустила бутылку на голову Трэвиса, так сильно, как только умела. Сильнее, чем это могла бы сделать я, будь это я, а не моя рука. Я слышала, как бутылка и его голова соприкоснулись: влажный глухой удар и разбивание вдребезги. На одно крошечное мгновение все замерло. Я была в шоке от того, что натворила моя рука. Я его убила?
Беспокойство по этому поводу не успело полностью мною завладеть, потому что вскоре голова его дернулась, и он закричал. Он с воплями повалился на бок. Но я не намеревалась выслушивать его вопли. Как только я поняла, что он не умер, я натянула платье, скатилась с дивана, и сделала я это почти со скоростью света. Мое сердце тяжело колотилось в груди, как будто оно тоже стремилось срочно оттуда выбраться.
«Сучка! — вопил он. — Маленькая сучка!» Я шарила в темноте руками в поисках своей дорожной корзины и вопила в ответ: «Мне очень жаль!» Я не испытывала ни малейшего сожаления. Просто у меня есть такая привычка — извиняться, особенно сразу после того, как я наношу ранения мужчине, который в два раза больше меня самой. Бывает, страх вынуждает нас говорить неправду.
Кроме того, я ни в коем случае не собиралась оставлять Трэвису свою книгу ноктюрнов. Я собиралась ее найти и поскорее убраться прочь. Я увидела, что разбила о его голову кальян. Запах стоял отвратительный. Трэвис пытался подняться, шатаясь, держась рукой за затылок. Он выкрикивал в мой адрес грязные слова, которые я не возьмусь здесь повторять. Я схватила корзину и побежала вниз по лестнице, побежала вдоль по темной улице, мимо хорошеньких мирных домиков. Я бежала и бежала, пока не достигла пляжа.
Я устремилась на пляж, подобно тому как сердце стремится домой, я бежала изо всех сил, а потом неподвижно застыла, вглядываясь вдаль, шумно дыша, отпустив свое дыхание растекаться над черным бесконечным морем. Там не было ни единой живой души. Только тоненькие волны с рваными краями скреблись о берег, да пара чаек кружила в темном небе, их тела смотрелись странно, молчаливые и розовые в отблесках сияния города. Неясные точки света мерцали в зданиях хозяйственных построек на берегах бухты, напоминая отстраненный взгляд иноземца, который, часто моргая, смотрит на вас и вас не понимает.
Если кто-нибудь побежит и будет бежать и бежать в одном направлении, рано или поздно он добежит до края земли и окажется лицом к лицу с морем, и тогда ему придется остановиться. Ему придется подумать.
От мысли о том, что надо подумать, я впала в панику и вместо этого принялась искать свой велосипед, потому что он был тем, с чем я была связана. Он так и стоял, прислоненный к столбу, на котором висел знак «Стоянка запрещена», он выглядел покинутым, поэтому я поскорее отвела от него взгляд. Все еще тяжело дыша, я плюхнулась на серый холодный песок. Я стала набирать полные пригоршни песка и сыпать его себе на ноги, как будто вкапывала себя в землю, как будто я была одним из атрибутов пляжа, как, например, урна в шляпке из всевозможных пакетиков и пустых жестяных банок.
Некто Противный так и лез со своими речами. Я знала, что не могу этого допустить. Если я позволю ему начать зудеть, что я единственный на всем белом свете человек, который сейчас не спит, которому некуда пойти, у которого только что появился вызывающий отвращение опыт из серии «встреча с нехорошим мужчиной» и у которого нет даже пары башмаков, не говоря уже о руке, за которую можно взяться, тогда мне настанет конец. Мне нужно быстренько с кем-нибудь подружиться, иначе я просто умру от одиночества, прямо здесь и прямо сейчас. Можно ли от этого умереть? У меня была мышка, которая так и сделала. Ее звали Дора, и она умерла после того, как убежала Флора. Она прекратила свой бег в колесе. Я нашла ее неподвижно лежащее маленькое окоченелое тельце.
Какое у мышки, должно быть, крохотное хрупкое сердечко.
Я слышала, как мягкое толстое тело океана трется о берег, словно у него есть собственное пульсирующее сердце. Сердце, пульсирующее вечно, никогда не останавливаясь. Воздух прошивался нитями негромких птичьих трелей, звезды таяли, превращаясь в мелкую пыль. Мне казалось, что я — притаившийся шпион, тайно наблюдающий тихий интимный час ночи, когда она плавно переходит в день. Словно обнажаясь.