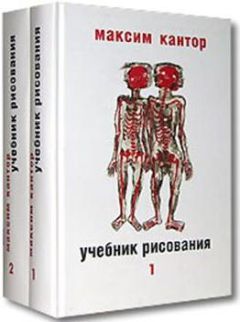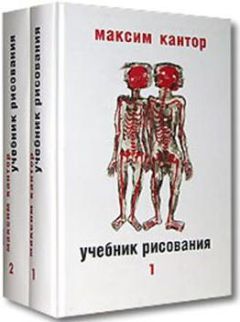Новый властитель оказался действительно более последовательным. У него ненужных метаний не наблюдалось, только нужные. В этом вопросе надобно как следует разобраться. Деконструктивизм и сомнения — это, конечно, правильно, но тут есть тонкость. В постмодернизме ведь что важно? Принципиальность в сомнениях, а случайных, необдуманных сомнений никто не одобрит. Деструкция — принцип чрезвычайно важный, но применять его ко всему подряд не стоит. И новые французские философы, и новые московские интеллектуалы прекрасно понимали, что есть вещи, которые надо подвергнуть деструкции, как, например: режим, партия, убеждения, долг, границы и т. п., а есть вещи, которые деструкции подвергать не стоит, например: Лазурный берег, счет в банке, открытый паспорт, устричные бары, хорошее бордо. То, что ставропольский постмодернист метался из стороны в сторону, — это было неплохо, но лучше, когда метания движутся в заданном направлении. Деструкция — это в целом хорошо, но надо помнить, что этот принцип применяется избирательно, а не ко всему подряд. А то ведь запутаемся.
И тут, надо признать, новый властитель России оказался на высоте. Вопрос «рушить страну или не рушить» он решил положительно: надо рушить, пора. Уж рушить, так рушить, к дьяволу полумеры! Нечего тут рассусоливать! И разрушил Советский Союз до основания — просто распустил империю, как некогда революционный матрос распустил Государственную думу. В одночасье Россия приняла самое знаменательное решение в своей истории — выйти прочь из Советского Союза, то есть из империи, которую сама же Россия строила почти тысячу лет. То есть послать к черту все то, что веками собирали цари и вожди. Для чего нам в самом деле все эти колонии, «жаркие шубы сибирских степей», леса, моря, проливы, неправедно присоединенные земли! Взять да и вылезти из этой жаркой шубы и отправиться голыми на мороз — вот решение не мальчика, но мужа. Такое решение осенило нового российского хозяина, и мир рукоплескал его отваге. Его сравнивали с Петром, имея в виду масштаб реформ. Да и куда там Петру! Подумаешь, Балтика! Подумаешь, Иван, да Петр, да Екатерина копили, подумаешь, Сталин завоевывал! Мы вот с ребятами выпили и решили — а зачем нам это все? Ну на хрена? Ну для чего, если разобраться? И соседи вот тоже говорят: вам, мол, это ни к чему. Ну и пусть себе валится эта обуза к черту на рога. Взяли — и выбросили. Петр Великий сказал: нам нужен флот. Мысль государственная, значительная. А первый Президент свободной России сказал: нам флот не нужен. А что? Тоже звучит недурно. Мысль тоже государственная, масштабная такая мысль. Так прекратила свое существование Российская империя — еще вчера была, а вдруг раз! — и не стало. Думаете, нам слабо? Сказано — сделано! Лихо, а?
День развала Российской империи объявили государственным праздником — и повелели отмечать его как День свободы. Население, интеллигентное население в особенности, приняло праздник всем сердцем — и день освобождения России от себя самой сделался любимым днем. Его отмечали шампанским и фейерверками, проклиная угрюмые застенки прошлого и радуясь новому изданию нищеты и рабства.
При ставропольском механизаторе русской душе было как-то тягостно, он, мыслитель нового типа, оставлял слишком много вопросов своему народу неразрешенными: то ли разваливать страну, то ли ее строить, то ли бороться с пьянством, то ли пить мертвую; зато при новом хозяине все прояснилось, и началось широкое народное гулянье. Столь же радикально и просто, как вопрос с Государством Российским, был решен вопрос с пьянством: разумеется, надо пить, и много пить, каждый день. Антиалкогольная кампания, затеянная слабохарактерным ставропольским механизатором, захлебнулась — и захлебнулась она в алкоголе. Пили все, и выпивка скрасила унылое существование страны. Мнение князя Владимира касательно природы русского веселья подтвердилось в полной мере. Что бы со страной и народом ни происходило, не стоит унывать. Если посмотреть по сторонам, трудно, пожалуй, найти повод для смеха; однако стоит выпить пару бутылок, и настроение заметно улучшается. Веселиться, так веселиться, чего уж там сидеть с постным видом. И скрывать веселье перестали. Правитель — он теперь именовался не царем, не генсеком, но первым русским Президентом — брался за дело прямо с утра, и веселье лилось литрами. Помощник президента (Однорукий Двурушник, разумеется, сохранил за собой эту должность) гадал, наберется ли президент уже к полудню или можно рассчитывать, что глава государства продержится до обеда — иными словами, когда подписывать бумаги, принимать делегации и т. п. Лучше бы за завтраком, потом уже рискованно.
Благородное намерение первого российского Президента развалить все к чертовой матери встретило понимание и у населения, и в непосредственном политическом окружении. Задача была ясна, исполнение почти не требовало усилий. Но кое-какие рабочие, так сказать, вопросы оставались открытыми. Поскольку прочий мир все-таки еще существовал, и лев еще не улегся рядом с ягненком, и проект Исайи в дипломатию еще не внедрили, то все-таки из чего прикажете исходить? Какой стратегии придерживаться? Как себя вести по отношению к соседям? Просто напиться, а там — посмотрим, что будет? Тактика неплохая. Конечно, было бы недурно взять, например, и сдаться Западу. Нехай они нас колонизируют и просвещают. Появились исторические труды с сетованиями на то, что Россию в свое время не колонизировал Наполеон. Борис Кузин называл это «упущенным историческим шансом», а бойкий журналист Шайзенштейн пошел еще дальше и опубликовал в «Континенте» статью с сожалениями: зачем так вышло, что Россию не захватил Гитлер. Конечно, писал Шайзенштейн, многих бы поубивали, а меня бы, еврея, и на свет некому было бы рожать, зато оставшиеся оказались бы в культурной западной стране. И уж во всяком случае, такой поворот событий не дал бы цвесть большевизму, этой чуме XX века. Так рассуждал бойкий Шайзенштейн, и многие с ним соглашались.
Когда я говорю «многие», я, разумеется, имею в виду ту часть населения России, мнением которой интересовались, — и прежде всего, конечно же, демократически ориентированную интеллигенцию. Ну не мнением же бабки из Орла интересоваться корреспонденту журнала «Дверь в Европу»? Не разведывать же настроение слесаря из Подольска? Хрена ли с них возьмешь, с пропитых мерзавцев. Им бы, сволочам, трояк до получки надыбать. Понятно, что мнение может иметь только субъект с развитым сознанием, — и не случайно интеллигенцию называют «совестью нации». Помнится, раньше совестью нации (а также ее умом и честью) называли коммунистическую партию, но партия себя не оправдала — и совесть тут же отыскали в другом месте. Интеллигенция вздохнула с облегчением, когда Российская империя развалилась: теперь не надо было краснеть перед иностранцами за размеры территории, испытывать стыд перед латышами за то, что надписи в их магазинах выполнены по-русски. А то было совсем муки совести заели — и вот на тебе! Радость! Не надо больше стыдиться! Латыши выбросили русский алфавит на помойку, снесли памятник Ленину, посадили в тюрьму русских офицеров, задержавшихся в Латвии после войны, прославили латышский батальон, примкнувший к Гитлеру и провели на площади Свободы парад ветеранов-эсесовцев. То-то хорошо! То-то независимо! Ведь главное что? Не гнетет больше русского интеллигента эта проклятая совесть, не мучает, не свербит. И народ, прислушиваясь к интеллигенции, тоже понял, что совесть более не свербит и что пришла пора ломать старье. Описывая события тех лет, нельзя пройти мимо свержения памятника Дзержинскому — да, да, тому самому, чекисту — на Лубянской площади. Народ ведомый Виктором Маркиным, Захаром Первачевым и Эдиком Пинкисевичем, вскарабкался на гранитную статую, опутал ее веревками и — под улюлюканье и свист — свалил с пьедестала. Но еще до того, как каменный истукан был низвергнут, вокруг него разыгрались сцены, достойные истории. У каждого пришедшего в тот день на встречу с каменным Дзержинским были свои счеты со статуей. Никогда еще статуе командора не приходилось встречаться с таким количеством Дон Гуанов, пришедших ее дразнить. В лицо недвижному исполину летели камни, проклятья, дерзости и остроты. Леонид Голенищев, чернобородый красавец, Дон Гуан наших дней, встал подбочась напротив Дзержинского и сказал так; «Дзержинский? Вот нечаянная встреча! Ты нынче весь к моим услугам, сука!» «Ты позовешь его на ужин, Ленька?» — хохотал Первачев, а сам уже накидывал аркан на шею истукана. «Что ж, пусть приходит, хам. Но снять галоши в передней я велю. Нельзя иначе: блюдут интеллигенты чистоту». Статуя дрогнула, стала заваливаться набок, народ ахнул: символ власти и государственности рушился прямо на глазах. Продолжая аналогию с Дон Гуаном — впервые в финале русской драмы торжествовал адюльтер. Статуя грянулась о мостовую, и подошедший к лицу поверженного врага Леонид поставил ботинок ему на впалую щеку и сказал короткую, но яркую речь, именуя врага то Дзержинским, то командором. Сейчас речь эта уже стерлась из моей памяти, но желающие могут найти ее в газетах тех лет — стоит лишь поднять архивы. Искрометный этот спич перепечатали и в «Коммерсанте», и в «Бизнесмене», и в «Европейском вестнике», и в «Herald Tribune». Помнится, в «Herald Tribune» даже пошутили и заголовком поставили цитату из Карла Маркса: «Человечество смеясь прощается с прошлым». И верно, уж кто-кто, а Леонид Голенищев умел посмеяться, да вообще смеялись в тот год много.