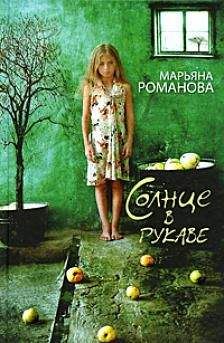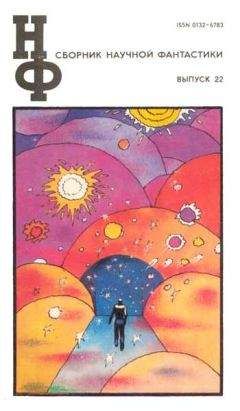А еще в ту осень она купила последнюю в своей жизни упаковку тампонов.
Впору было писать на холодильнике: «Жизнь кончена!», потому что впереди была вечная мерзлота.
Однажды Надя вытащила маму на субботнюю прогулку. Погода была идеальной для того, чтобы идти рядом, прихлебывая кофе из бумажных стаканчиков, болтать и лениво отмечать взглядом пуговицы на лоскутном платье города. Вот девушка в черном вдовьем платье и шляпке с вуалью медленно идет по бульвару, наслаждается вниманием прохожих и старается играть чуть ли не мадам Бовари, для которой у нее слишком мало опыта и слишком много румянца на юных щечках. Смешная, смешная, милая. Надя с юности испытывала нежность к неформалам всех мастей – к тем, чей вызов миру был так инфантилен, театрален, безобиден и ярок. Вот пряничная пожилая пара – на старичке светлый сюртук, а старушка – в многослойных бусах из индийского аметиста. Он поддерживает ее за локоть, и с одинаковой вероятностью они могли прожить вместе жизнь или познакомиться позавчера в каком-нибудь клубе любителей Блока. Такое в Москве встречается. И вторая версия казалась Наде более романтичной, чем первая, потому что давала надежду, что старость, о которой она иногда с еле заметным волнением задумывалась, не так уж суха и неплодородна. Особенно если у тебя есть Интернет и такие вот бусы. А вот из темной арки потянуло чем-то пряным и сладким – кто-то спрятался в дворике, чтобы выкурить косячок, а дым вырвался на волю, рассказывая всему миру о происходящем.
Так они шли и шли, а потом немного замерзли, и Надя предложила погреться в какой-то галерее современного искусства. Они немного побродили по пустому залу, а потом мама наткнулась на репродукцию картины Климта «Три возраста женщины», и Надя даже не сразу поняла, что случилось, а мама уже сидела на скамеечке, закрыв руками лицо, и плечи ее дрожали. А вот музейная смотрительница была более проницательной; ей тоже было за пятьдесят, и она тоже носила кудряшки и воздушные шарфики. Она принесла Тамаре Ивановне воду и погладила ее по плечу.
– Мама, мама, да что с тобой происходит?
И тогда мама отняла от заплаканного лица ладони и, глядя в пустоту, ответила:
– У меня уже висят сиськи.
Надя поперхнулась от неожиданности.
– У тебя… что, прости?
– Сиськи, – угрюмо подтвердила Тамара Ивановна. – Сиськи у меня уже не те. Я посмотрела на картину и вдруг поняла. Я – это третий возраст женщины. С сутулой спиной, рыхлым животом и грустно наклоненной головой. И с сиськами, которые висят.
– Глупости. У тебя прямая спина.
– Это метафора, – печально улыбнулась мама. – Главное, я давно уже не плодородна. И пусть я пытаюсь выглядеть… фертильной, но это пустое. Потому что я возвращаюсь домой, смываю помаду и вижу желтые губы. Я смываю румяна и вижу сухие щеки. Я смываю тушь и вижу, что глаза не блестят. У меня осталась и жажда, и желание жить, а они не блестят больше, понимаешь? А потом я снимаю лифчик – ты же знаешь, я покупаю только дорогое белье, это разумное вложение, – и вот я снимаю лифчик и вижу их. А они скучные, дряблые и висят. Потому что я – старуха.
Надя заставила маму умыться и выпить шампанского и увела ее подальше от грустной картины. Прошло полчаса, и Тамара Ивановна со свойственным ей легкомыслием забыла о том, что жизнь кончена; весело наелась эклеров в кофейне, купила в подземном переходе серебряное кольцо-розу, вернулась в свойственный ей режим порхающей болтовни.
Но подобные всполохи случались с ней все чаще и чаще. Надю это тревожило. Она даже подумала: а может, переехать на время к маме, ну что она там, в бывшей коммуналке, одна. Но Тамара Ивановна так рьяно отвергла идею, что Наде даже стало немного обидно.
«У меня никогда не получалось ни с кем сосуществовать. Я сею хаос, и в этом хаосе мне хорошо и уютно. Если кто-то начнет перекладывать мои духи и стряхивать крошки с моего стола, я сойду с ума».
Но вместе с тем малыша она ждала – с надеждой, волнением. И Надя не то чтобы рассчитывала на заметную мамину помощь, но все равно ей было приятно. Наконец случилось то, о чем она мечтала столько лет, – мама втянула в круг своих интересов и ее, Надю, и в радужных маминых мечтах о будущем все чаще всплывало имя дочери.
Это было так необычно и умиротворяющее, что, даже допуская возможность воздушного замка, Надя в такие минуты все равно чувствовала себя почти счастливой.
В делах любовных Марианна была не стратегом, а пехотинцем с бурлящей адреналином кровью. Она храбро шла напролом, ее интересовало только то, что находилось в непосредственном поле зрения. Она была магистром кровавых атак, ее совсем не занимал тыл противника.
Между тем в тылу у противника была жена Светлана. Морской биолог, находящийся в нежном возрасте двадцати шести лет. Загорелая блондинка с мускулистыми, как у породистой лошади, ногами. Они познакомились в Австралии, где он отдыхал с предыдущей женой, а Светлана, в те годы еще студентка, работала по гранту. Она была Афродитой и Артемидой одновременно. Прекрасная бесстрашная охотница, вышедшая из пены морской. На диком пляже стоял знак – надпись «shark zone» и рисованный профиль акулы с зубастой пастью. Борис и его жена вышли из автобуса сфотографироваться. А потом показывать московским друзьям – смерть плавала в пятидесяти метрах от нас, а ее присутствие отметили всего лишь будничным дорожным знаком. Если бы жена знала, что в пятидесяти метрах плавала не только смерть, но и прекрасная блондинка, которая – не пройдет и двух месяцев – разрушит ее семью, она бы скомандовала водителю сильнее давить на газ. Но она ничего такого знать не могла, поэтому в шутку предложила:
– Окунемся?
Он обернулся к морю, надеясь увидеть плавник, как в фильме «Челюсти». И вдруг – девушка. Как привидение, невозмутимое в своей печальной строгости. Разве что для привидения она была слишком живой – румянец как у матрешки, сбитые коленки, выгоревшие брови. Через голову стянула старенькую неопреновую футболку, осталась в видавшем виды купальнике. Ее молодость не нуждалась в огранке, она была хороша и так, сама по себе. Тело словно морем обточенное. Борис засмотрелся. Жена заметила, нахмурилась.
– Она русская, – сказала насмешливо.
– Это еще почему?
– Только русские так смотрят на мужиков. Вызывающе.
– А она что, на меня смотрела? – во второй раз удивился он.
Девушка тем временем с улыбкой помахала им рукой. И, подхватив ласты, пошла в их направлении. Жена посмотрела на часы:
– Нам пора. Пошли в автобус.
– Ну что ты, в самом деле. А вдруг человеку помощь нужна.
Потом, прокручивая в памяти этот момент, Борису, кажется, удавалось вспомнить, что эта улыбчивая белобрысая незнакомка сразу произвела на него гипнотическое действие. Ее хотелось подпустить ближе, ее хотелось рассматривать. Ей не было нужды бояться акул, потому что она сама была как акула.
Она попросила подбросить ее к соседнему пляжу. Ее унесло течением, а там, на пляже, группа биологов, в том числе ее научный руководитель.
– А вам не страшно? – Борис смотрел на нее как завороженный. – Здесь же купаться запрещено.
– Это для туристов, – рассмеялась Светлана. – На самом деле акулы не так уж часто нападают. Чаще – на серферов, которых путают с морскими черепахами. Смотрят снизу – доска, руки, ноги. Похоже на черепаху. А я – не похожа. Во всяком случае, хочу в это верить.
– Вы похожи на русалку, – вырвалось у Бориса.
– А хотите завтра с нами на риф? – неожиданно предложила блондинка. – Вам понравится.
– Завтра мы не можем, – вмешалась жена. – У нас экскурсия.
Но было уже поздно. Светлые глаза блондинки смеялись ему в лицо. Борис никогда не считал себя бабником. Он был привлекательным мужчиной. К тому же психологом. Вокруг психологов всегда много женщин. Он считал, что любит жену. Они были вместе почти семь лет. У них была собака, дурной веселый эрдель. Жена Бориса считала, что общая собака – серьезнее, чем общий ребенок. Потому что дети, бывает, появляются случайно, а собаки – никогда. И вот все это – его уютная вселенная с привычными шутками, непременным еженедельным сексом, пахнущей яблочными пирогами и собачьей шерстью квартиркой в Бибирево – все это вдребезги разбилось о смеющийся взгляд девушки, которую он знал меньше пяти минут. Если бы такую историю рассказал кто-нибудь из его пациентов, Борис предложил бы ему психоанализ по системе старого доброго Фрейда, а потом долго и тщательно ковырялся бы в его детстве, как в зажившей болячке.
– Мы сможем, – сказал Борис. – Экскурсия – это банально. Ее можно отменить.
И все. Этим «мы сможем» он поставил подпись на договоре с дьяволом. Жена, конечно, что-то заподозрила, но вряд ли могла и предположить, что все так серьезно. Вечером они поссорились. А потом жена плакала на балконе номера, сутулая, красноносая, а Борис чувствовал себя виноватым. На следующий день, на рифе, он словно помолодел на двадцать лет. Именно такой была разница в возрасте между ним и Светланой. Двадцать лет. Целая жизнь. Он сверкал глазами, смеялся, шутил, прыгал с борта лодки, поднимая брызги. Жена шепнула, что он ведет себя как мудак. А ему было хорошо – как никогда в жизни. Он видел мурену и морскую звезду. А Светлана продиктовала ему свой московский телефон – домашний.