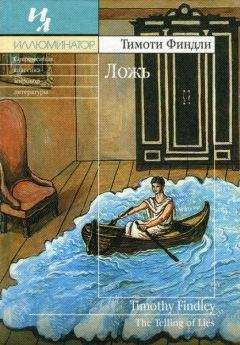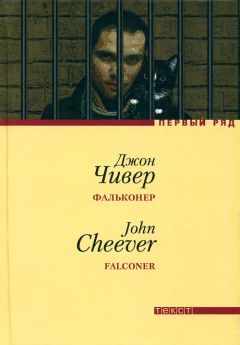Она приехала в Сурабаю из Сингапура, а в Сингапур — из Шанхая. А до того снялась в нескольких фильмах в Голливуде. В Голливуд же явилась из аляскинского Нома. Очень быстро понимаешь, что незачем спрашивать таких людей, как и почему они совершают подобные скачки. Просто так получается. Я очень сомневаюсь, что они сами отдают себе отчет в этих как и почему.
Зимой 1944-го, когда Дороти Буш умирала в импровизированном бандунгском лазарете, ей было, наверно, около сорока пяти. Блондинка с прямыми волосами. Я помню, какой она была до интернирования: редкостная красавица с хрипловатым смехом и характерной привычкой отводить упавшие на глаза прямые светлые волосы. Она словно бы делала кому-то знак рукой. Редкостная красавица, но совершенно не такая, как Гарбо или Дитрих. Редкостность ее красоты заключалась в том, что складывалась она из элементов, которые мы обыкновенно с красотой не связываем. Дороти инстинктивно умела себя подать и оттого была прекрасна. У всех и каждого дух захватывало, когда она в светло-бежевом костюме из натурального хлопка почти под цвет волос (однажды я видела на ней такой) выходила из-за угла и острым взглядом умных голубых глаз мгновенно выхватывала всех лучших людей в комнате. Подле нее мог толпиться десяток людей, но она словно бы находилась с каждым из них наедине.
Я быстро подпала под власть ее чар. Обожала слушать, как она рассказывает эпизоды своей жизни, будто охотиться на китов, и курить опиум в китайских притонах, и говорить Чарли Чаплину, что не пойдешь за него замуж, — самые заурядные вещи на свете. И вот теперь она умирала. От некой разновидности церебральной малярии, которая терзает свою жертву ужасными головными болями, приступами горячки и пугающе долгими периодами беспамятства. Такие странные болезни стали появляться в последние годы нашего заключения, поэтому никто не знал, чем их лечить. Те жалкие медикаменты, какими мы располагали, не действовали вообще.
Трудно сказать, что побудило маму послать меня к ограде, с остатками ее личных драгоценностей. Мы все видели, как умирают другие, в том числе близкие нам люди, хотя близость эта возникла уже в лагере. Мама оставалась равнодушной, особенно после смерти отца.
Я не люблю слово равнодушный. Оно похоже на слово ненавидеть. То и другое — как слова — не всегда точно передают смысл. Я не хочу сказать, что мама была холодной или жестокой, когда дело касалось чужих бед и боли, а тем паче когда кто-нибудь умирал. В тюрьме равнодушный означает кое-что другое, причем такое значение немыслимо, пожалуй, нигде, кроме тюрьмы. Для мамы и для несчетного множества других, включая меня, это означало, что чувства маскировались. Их не обуздывали, нет. Даже маскировались звучит холодно. А это не так.
Во всяком случае, мама, привязанная к Дороти ничуть не сильнее, чем, например, дома к соседке по этажу, прониклась к ней большим сочувствием, нежели к любому другому узнику. Видя страдания Дороти, мама не сумела удержать свои эмоции под прежним жестким контролем. Однажды темной ночью она пришла ко мне и присела на корточки возле моей койки, перед москитной сеткой.
— Проснись, — сказала она. — Есть дело, надо идти прямо сейчас.
Я и теперь вижу ее как наяву, за сеткой, — круглое, миловидное личико, поблескивающее от пота, и глаза, суровые, твердые как камень, омытые слезами.
Она дала мне свое обручальное кольцо, хотя до тех пор клялась, что никогда с ним не расстанется, и прятала в волосах, вплетая в косичку. Все наши драгоценности были конфискованы, за исключением тех вещиц, которые мы успели припрятать в первые часы сурабайского ареста. Со временем каждая из этих вещиц послужила нашему выживанию — когда болезнь, недоедание и прочие проблемы требовали чего-нибудь такого, что можно было достать только у ограды.
Но мы с мамой сами никогда к ограде не ходили. Эту задачу — крайне опасную, поскольку все происходило на глазах у охранников полковника Норимицу, — неизменно поручали другим узницам, чья предыстория была не так благополучна, как наша. Мамины опасения по поводу ограды касались исключительно «нарушения закона». Вероятно, она не меньше любого из нас нарушала законы морали, но гражданский кодекс не нарушала никогда. Одна лишь мысль об этом бросала ее в дрожь. Мои опасения были гораздо проще. Я трусила — и честно в этом признаюсь. Пули, убившие отца, были для меня слишком реальны, чтобы оставить их без внимания, хотя я прекрасно понимаю, что великое множество других видов страха вполне можно оставлять без внимания, пусть просто потому, что они пребывают в нереальности, пока ты их не видишь. Чаще всех к ограде ходили матери очень маленьких детей и кое-кто из медсестер, сведущих в полезных свойствах лекарств, которые могли появиться на рынке по ту сторону забора. Матери ходили туда за едой. За чем-нибудь съестным.
Надо сказать, в Бандунге существовало два черных рынка. Тот, о каком я веду речь — торговля там велась через ограду, между узниками внутри лагеря и «продавцами» на воле, — был страшным местом. Другой, более-менее обычный, напоминал скорее «городской рынок»: там узники менялись товарами, в том числе приобретенными через ограду. Этот черный рынок действовал почти каждое утро, за нужниками. Место надежное, где каждый наверняка мог встретиться с каждым. Вдобавок оно менее всего привлекало пристальное внимание охраны. Ужасы таких нужников — вонь, опасность заразы, зрительный кошмар, вдобавок присутствие змей, пауков и прочих насекомых, а сверх того, огромных личинок, кишевших в жиже, — не отпугивали разве что доведенных до отчаяния. Как мы все это выдерживали, я просто ума не приложу. Рынок действовал весь день, но сделки совершались на удивление быстро.
— Возьми кольцо, — сказала мама, — и ступай к ограде прямо сейчас. Там один продавец предлагает чистый хинин. И аспирин. Бери все, что можно. Это для Дороти.
Выражение ее лица — и всё, что я знала о ее упорном нежелании ходить к ограде самой и посылать туда меня, — в зародыше пресекло мои протесты. Я немедля встала, надела темное ситцевое платье, которое берегла ко дню освобождения — не из-за цвета, а из-за относительно безупречного состояния, — взяла кольцо и ушла, оставив маму возле койки.
Ночь была безлунная, на небе сверкали только звезды. Уже больше месяца лили дожди, и лишь по ночам прояснялось. Дорожки между бараками превратились в самые настоящие грязные реки. Я шла к ограде босиком, на ходу считая углы бараков.
Торговля велась у того участка ограды, который смотрел на джунгли. Люди, приходившие к нам, добирались сюда дорогами, которых мы и представить себе не могли, ведь если и бывали за оградой, то лишь с северной стороны, где открытая лесостепь отделяла лагерь от дождевого леса и дороги на Бандунг и Джакарту.
Сперва я решила, что заблудилась. Вокруг не было видно ни души. Но очень скоро стало ясно, что я не одна.
Кто-то шепотом окликнул меня из-под ближнего барака. Мамино кольцо я надела на палец, опасаясь, что иначе уроню его в грязь и уже не найду. А руки сжала в кулаки — опять же из опасения, что кольцо соскользнет с пальца, пальцы-то были тощие, костлявые, я очень исхудала. Так и шла, сжав кулаки, в темном ситцевом платье, по колено в грязи, и в конце концов разглядела кучку женщин, тоже в темном, тоже босых и расстроенных, — они сидели на корточках под свайной террасой.
— Они ушли, — сказали мне. — Птицы очень уж распелись.
Я поняла замечание насчет птиц, потому что все прекрасно знали, что в те часы, когда у ограды действовал рынок, птицы пели только далеко в лесу. Стало быть, речь шла о людях — вероятно, о японцах, которые птичьим свистом подавали знаки друг другу. Если так, то продавцы почувствовали опасность и ретировались.
Минут пятнадцать мы просидели на корточках в грязи под бараком, шею у всех свело судорогой, потом одна из женщин — медсестра-австралийка по имени Дейрдре Макнаб — предложила вернуться к ограде и глянуть, есть ли там кто-нибудь. Птичьи зовы умолкли, слышались только далекие пронзительные голоса ночных птиц. Иные песни звучали насмешливо-радостно и приятно, а одна походила на соловьиную, хотя на экваторе соловьи не водятся.
Через пять минут Дейрдре Макнаб вернулась.
— Можно идти, только поодиночке, — сказала она. — Товар нынче очень высокого качества. Соблюдайте норму… — И, помолчав, добавила: — Прямо напасть какая-то. Нужно смотреть на вещи трезво. Алчность недопустима, на нашей стороне ей нет места. Что бы вы ни дали этим людям — получите только обычную долю. Не больше. Не могу не сказать об этом сейчас, потому что доля ваша невелика. Если кто-то пришел выменивать вещи, имеющие для него особую ценность, так сказать последнее, прибереженное на самый черный день, я вас предупредила. Если вы пожертвуете ими сегодня, то получите ровно столько же, сколько другие, отдавшие меньше. Сожалею. Но таковы факты.