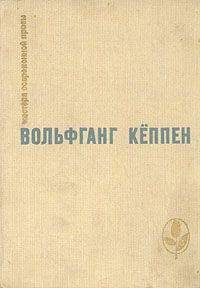— Рюмка коньяку вам бы не повредила, — сказал Кетенхейве.
Герда заказала кофе; она заказала кофе, чтобы в любом случае обеспечить за собой право оставаться в ресторанчике. Кетенхейве еще ничего не сделал для Лены, будущего механика. Он искренне сожалел об этом. Зря пропал день. Официантка принесла ему бумагу для писем. Фирменную бумагу винного погребка с отпечатанным вверху листа стишком: ЧТО ТАКОЕ ВИНО? ПОЙМАННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ ОНО. Эта бумага произведет на уважаемых адресатов неважное впечатление. Кетенхейве — человек, лишенный чувства приличия. Он написал записку Кнурревану и записку Кородину. Он просил Кнурревана и Кородина устроить Лену, будущего механика, на завод. Оба письма он отдал Лене.
Кородин не знает, верит ли он в бога, а Кнурреван не знает, не верит ли он в бога. Лучше всего пойди к тому и другому. Кто-нибудь да поможет, сказал он ей и подумал: «Ты не дашь себя выпроводить вон, моя маленькая ударница». Кетенхейве хотел ей помочь. Но в то же время сознавал, что не хочет ей помочь, что охотно уцепился бы за нее; он охотно взял бы ее к себе, чтобы она жила у него, ела и пила вместе с ним, спала бы с ним, у него вновь проснулся аппетит к человеческой плоти, Кетенхейве — старый людоед. Может быть, ему удастся послать Лену в Высшее техническое училище и она сдаст экзамены, Лена — дипломированный инженер. А что потом? Решиться ли ему на это? Решиться ли на связь? Что делать с университетски образованной строительницей мостов? Можно ли с ней спать? И что испытываешь, обнимая ее? Любовь — это формула …
Он взял Лену за руку и повел ее в развалины. Герда шла следом за ними. С каждым шагом гитара билась о ее мужененавидящее тело и стонала в монотонном ритме. В такте негритянского тамтама. В нем слышался плач потерпевших поражение, чувство одиночества и тоска по дремучему лесу. Черный автомобиль все еще чего-то ждал среди разрушенных стен. Иностранный автомобиль тоже все еще стоял на разбитой, заваленной щебнем дороге. Луна прорвалась сквозь тучи. На потрескавшихся камнях сидел Фрост-Форестье. Перед ним в смелой и непринужденной позе, озаренный светом луны, расстегнув до пояса рубашку, в своих узких коротких штанах, с запорошенными мукой голыми икрами и ляжками стоял смазливый подручный булочника, который хотел ограбить кассиршу кинотеатра. Кетенхейве помахал рукой Фросту-Форестье, но призрачные фигуры сидящего среди развалин мужчины и гордо выпрямившегося перед ним эфеба не шелохнулись. Они казались окаменевшими видениями, и все вокруг было нереальным и в то же время до жути реальным. Из стоявшего на разбитой дороге иностранного автомобиля донесся стон, и Кетенхейве показалось, что снизу, из-под закрытой дверцы машины капает кровь и просачивается в щели между развалинами. Кетенхейве повел Лену в укрытие среди полуразрушенных стен, которое было когда-то комнатой, на стенах еще виднелись обрывки обоев. Возможно, здесь был кабинет какого-нибудь боннского ученого, потому что Кетенхейве различил помпейский узор и выцветшую сладострастную фигуру женоподобного Эрота с надорванным фаллусом, похожим на перезрелый плод. Горда последовала за Леной и Кетенхейве в это укрытие, залитое светом, а вокруг из катакомб, из засыпанных подвалов, из убежищ нужды и запустения слышался шепот, кто-то выползал, ковылял на четвереньках, словно в ожидании спектакля. Герда опустила гитару на камень, и инструмент отозвался звучным аккордом.
— Играй же! — крикнул Кетенхейве.
Он схватил Лену, девушку из Тюрингии, склонился над ее полным любопытства и ожидания лицом, искал ее слегка припухшие, мягкие, говорящие на средненемецком диалекте губы, пил ее сладкую слюну, свежее дыхание и горячую жизнь из юного рта, он сдернул с Лены, будущего механика, ее бедное платьице, стал ласкать ее, и Герда, побледнев еще более в бледном свете луны, взяла свою гитару, ударила по струнам и звонким голосом затянула песню о небесном женихе. Из нор, шатаясь, вылезали убитые, из щелей выползали засыпанные, из известковых могил поднимались задушенные, из подвалов медленно выбирались бездомные, а с груд обломков вставала продажная любовь. Пришел из своего дворца и перепуганный Музеус и увидел нищету, и все депутаты собрались на чрезвычайное ночное заседание и расположились в своем обычном порядке на кладбище национал-социалистской эпохи. Приехал великий государственный муж, и ему дозволено было заглянуть в мастерскую будущего. Он увидел чертей и гадов, увидел, как они мастерят гомункулуса. Увидел, как колонна бравых мещан поднялась на гору Оберзальцберг и встретила там прикативших на туристском автобусе дочерей Рейна, бравые мещане и туристки произвели на свет сверхмещанина. Сверхмещанин проплыл стометровку стилем баттерфляй меньше чем за одну минуту. Он выиграл на автомашине немецкого производства тысячемильные гонки в Атланте. Он же изобрел ракету для полета на Луну и, полагая, что ему грозит опасность, стал готовиться к войне против других планет. Заводские трубы вздымались ввысь, отвратительный дым стлался по земле, и, окутанный сернистым чадом, сверхмещанин основал супервсемирное государство и ввел пожизненную воинскую повинность. Великий государственный муж бросил розу в дым будущего, и там, где упала роза, возник источник, а из источника потекла черная кровь. Кетенхейве лежал в кровавой реке вечности, лежал с девушкой из Тюрингии, с будущим механиком из Тюрингии, в обществе народных представителей, в обществе государственных деятелей, он возлежал в кровавой постели, окруженный диковинным сбродом, и совы кружились в воздухе, и кричали Ивиковы журавли, и коршуны точили свои клювы о разрушенные стены. И кто-то уже воздвиг помост для казней, и пророк Иона прибыл верхом на своем мертвом и добродушном ките и осуществлял строгий надзор за сооружением виселицы. Депутат Кородин тащил огромный золотой крест, весь сгибаясь под его тяжестью. Он с трудом водрузил крест рядом с виселицей и стоял, трясясь от страха. Отламывая от креста куски золота, он бросал их в толпу государственных деятелей и народных представителей, бросал их в окруживший его диковинный сброд. Государственные деятели положили золото в банк на свой текущий счет. Депутат Дерфлих спрятал золото в молочный бидон. Депутат Седезаум улегся вместе с золотом в постель и взывал к господу. Диковинный сброд осыпал Кородина площадной бранью. Повсюду на обломках стен, в оконных проемах, на потрескавшейся колонне из «Проклятия певца» сидели прожорливые геральдические звери, корячились глупые нахохлившиеся хищные гербовые орлы с окровавленными клювами, жирные самодовольные гербовые львы с вымазанными кровью пастями, извивающиеся грифоны с влажными темными когтями, грозно ревел медведь, мычал мекленбургский бык, а перед ними маршировали штурмовики, проходили парадом подразделения «Мертвой головы», под звуки оркестра шагали батальоны тайных убийц, вынимались из покрытых паутиной чехлов флаги со свастикой, и Фрост-Форестье, нахлобучив на голову пробитую пулей стальную каску, кричал: «Мертвецов на фронт!» Проходил великий военный смотр. Молодежь двух мировых войн маршировала мимо Музеуса, и бледный Музеус принимал парад. Матери павших в двух мировых войнах безмолвно проходили мимо Музеуса, и бледный Музеус приветствовал их траурное шествие. Государственные деятели двух мировых войн, все в орденах, подходили к Музеусу, и бледный Музеус подписывал договоры, которые они ему подсовывали. Генералы двух мировых войн, сплошь увешанные орденами, подошли чеканным шагом, выстроились перед Музеусом, обнажив сабли, отсалютовали и потребовали пенсий. Бледный Музеус назначил им пенсии, а генералы схватили его, потащили на живодерню и передали в руки палача. Потом пришли марксисты со знаменами. Они с трудом тащили гипсовый бюст великого Гегеля, а Гегель надрывно кричал: «Великие индивидуумы в своих партикулярных целях являются осуществлением субстантности, выражающей волю мирового духа». Изнуренный от долгой игры тапер из ночного ресторана исполнил после этих слов «Интернационал». Жалкие красотки из другого ночного ресторана станцевали «Карманьолу». Министр полиции приехал на водомете и пригласил всех на облаву. Он пустил по полю дрессированных псов, распаляя их криками: «Ату его, трави, гони!» Собаки, спущенные министром, старались изловить Кетенхейве, друга собак. Но Фрост-Форестье, пытаясь защитить Кетенхейве, развернул перед ним карту мира, показал на Рейн и произнес: «Здесь находится Гватемала!» Гитара жалобно застонала. Песня девушки из Армии спасения разнеслась далеко над развалинами, поднялась над нагромождениями нужды и страха. Кетенхейве чувствовал готовность Лены к самопожертвованию и вспоминал все случаи собственного самопожертвования за последние годы со времени возвращения, все отчаянные попытки вмешаться не в свое дело, оставшиеся бесплодными и никого не спасшие. То, что он хотел совершить сейчас, было актом величайшей безысходности, и Кетенхейве отчужденно смотрел в чужое, поддавшееся обману сладострастия лицо. Осталась только грусть. Здесь не было ничего возвышенного, только вина, здесь не было никакой любви, здесь разверзлась могила. От него самого веяло могильным холодом. Он оставил девушку и поднялся на ноги. Увидел перед собой стрелку указателя бомбоубежища и на ней надпись: РЕЙН. Эта стрелка отчетливо выделялась в ярком свете луны и властно показывала на реку. Кетенхейве выбрался из окружающего его сброда, который и в самом деле собрался здесь, привлеченный печальным пением и звучными переборами гитары. Кетенхейве побежал к берегу Рейна. Ругань и смех неслись ему вслед. Кто-то бросил в него камень. Кетенхейве побежал к мосту. В освещенных витринах магазина, что на углу у моста, ему кивали манекены. Они требовательно простирали руки к депутату, который навсегда избавлялся от их колдовства. Скорей мимо! Всему конец. Уже наступает вечность!