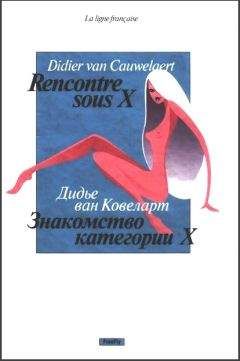Каким бы стало мое возвращение? Я позвонила бы Франку, рассказала ему о пережитом, как делятся дурным сном, а потом жизнь вернулась бы в привычную колею: мои пациенты, мой дом, его любовницы. С единственными возможными в том, что касается меня, вариантами: переехать, купить новую собаку, обзавестись мужчиной. Согласиться возглавить клинику, нисколько не заботясь о том, как это скажется на Франке, выдерживать противостояние с администраторами и кредиторами в попытке навязать им свои взгляды, чередовать дипломатические ходы, открытые столкновения, уступки… У меня больше нет ни соблазна сказать "да", ни смелости сказать "нет". Я чувствую себя все более одержимой Хуаном Диего, в полном соответствии с тем, что читала о нем, что мне о нем рассказывали и каким сделал его мой сон… Я сейчас испытываю то же самое, что и он, когда стоял перед Девой четыре века назад. Поначалу не верится, потом выбираешь свой лагерь, а под конец находишь это чем-то само собой разумеющимся. Познание сверхъестественного не привносит ничего нового в человеческую природу, оно выявляет уже существующие черты характера: у одних развивает излишнее самомнение, у других воспламеняет сердца, кого-то погружает в бездействие. Бедный индеец семнадцать лет провел в окружении богомольцев и идолопоклонников, став узником рассказа о единственном знаменательном событии своей жизни. Разве мог он мечтать о чем-то большем, ожидать чего-то лучшего на этой земле после потери своей жены? Он жил прошлым, как и я до сегодняшнего дня, а время неумолимо шло вперед, и вот теперь я сажусь на лавку собора и жду.
Что же так тяготит меня, отчего так сводит живот, что заставляет бесцельно сидеть с подкатывающими к горлу рыданиями и щемящим сердцем? Такое сходство, такая общность взглядов? Но мой внутренний голос молчит, так же как это бывало и в маминой синагоге, и в церквях, где позднее я пыталась найти оправдание поступкам отца. Я выхожу той же, что и входила.
На расколотой прерванными ремонтными работами паперти в инвалидном кресле просит милостыню старик без ног и рук, с табличкой "gracias"[22] на шее. Прохожие, словно в расщелину ствола, опускают монетки в карман его рубашки, избегая встречаться с ним взглядом, крестятся и продолжают свой путь. Некоторое время я стою, прислонившись к забору, завороженная этой сценой, выглядящей все более неправдоподобной по мере того, как по прошествии первого шока к ней привыкаешь. Как он добрался сюда, как передвигает свое кресло, как вынимает свои гроши из кармана или хотя бы следит, чтобы их не стащили? Его лицо выражает лишь мимолетную сосредоточенность, вежливое равнодушие банковского сотрудника у своего окошка.
Несколько минут спустя у паперти притормаживает пикап. Шофер включает аварийный сигнал, выходит, чтобы открыть заднюю дверцу, сооружает из доски подъемный мостик, идет за невозмутимо сидящим калекой и вкатывает его в кузов с таким бесстрастным видом, как если бы забирал выручку из парковочного счетчика. Потом появляется обратно, неся на руках ребенка все с той же табличкой, усаживает его на асфальт у выхода из собора, ставит у его ног разрисованную Микки-Маусами миску, захлопывает заднюю дверцу и продолжает объезд.
Потрясенная до слез, я приседаю на корточки перед малышом, которому, должно быть, лет шесть-семь, беру его за руку. Он отвечает "gracias" тихим и безучастным голосом. Его закрытые веки – лишь обмякшие кожные складки, скрывающие пустые глазницы.
Полицейский свистит мне, поднимает меня, рявкая, что я не имею права оставаться на этом месте. Почему? Я что, препятствую уличному движению, мешаю изъявлению жалости прохожих, расстраиваю прибыльный бизнес? Внутри меня все клокочет от отвращения, и я удаляюсь, оставляя без внимания возгласы разбушевавшегося полицейского, угрожающе указывающего мне на миску с Микки-Маусами. Как дать денег, если знаешь, что тем самым поддерживаешь гнусный промысел, откармливаешь сутенера калек? Все видевший туроператор, поджидающий свою группу у красного светофора, заявляет, что ничего нельзя поделать: ежегодно тысячи нищих похищаются из своих кварталов, а потом, уже с удаленными глазами, оказываются брошенными на улице. Незаконный оборот органов в Мексике сейчас на пике, а у полиции нет ни времени, ни средств его ликвидировать.
Он вздыхает, хлопает в ладоши, переводит свою группу через дорогу, и они удаляются в направлении очередного памятника архитектуры. Ужасы, творящиеся в этой стране, о которых не говорят вслух, заставляют меня остолбенеть в шуме непрерывного потока машин и щелчков фотоаппаратов. Как же ты, Хуан Диего, кем бы ты ни был, с колпаком или без, ты, в кого верят, ты, спасший от слепоты мальчика, выколовшего себе глаз рыболовным крючком, допускаешь подобные зверства? Как можно притязать на нимб святого, когда исполняешь одну мольбу из тысячи, когда совершаешь чудо как показное действо ради убеждения? И хочешь, чтобы я поверила во вмешательство Девы, если проповедуемая Ею любовь подобна рекламе недоступного для бедняков лекарства?
Я вхожу в бар, тотчас выхожу обратно. Что церковь, что бар, что алкоголь, что молитва, все ведет к одному: ты опускаешь руки, заглушаешь голос совести и впадаешь в бездействие. Раз незаконный оборот органов достиг такого размаха, значит, на них есть спрос. Единственной возможностью перекрыть незаконный оборот стало бы исчезновение спроса. Если бы в Мексике имелась искусственная роговица, к уличным беспризорникам перестали бы относиться как к складу запасных деталей. Трансплантации, необходимые при дистрофии сетчатки, кератите или герпесе, пощадили бы живых доноров. Это нам следует действовать, не небесам. За эту страну мне больно, а за мою, когда она отвергает медицинский прогресс, не сулящий большой прибыли, стыдно. Для чего вообще пытаться пробить глухие стены, когда здесь можно было бы спасать детей!
Я углубляюсь в переулки за площадью, в поисках тишины, тени и указания к действию. Я больше не могу жить в этом мире, не имея возможности ничего изменить. И я не стану дожидаться перехода в мир иной, чтобы изъявлять свою волю посредством компьютеров, автоответчиков и снов. Но отчего этот внезапный страх, это ощущение неотложности, это чувство поражения, когда я, может быть, наконец-то вновь обретаю контроль над своей жизнью?
Шаги за спиной, я останавливаюсь, и они смолкают. Я оборачиваюсь. Ни души. Я одна в этом проходе между глыбами обреченных на снос домов. Я ускоряю шаг, заворачиваю за угол. Тупик. На другом конце прямо передо мной разворачивается грузовик. Я отступаю обратно, но из строительных лесов выскакивают двое мужчин и направляются в мою сторону. Из грузовика, засунув руки в карманы, спускается третий. Шофер газует на нейтралке, заглушая мои крики о помощи. В руках у троицы блеснули ножи. Помоги мне, Хуан Диего, умоляю тебя, не дай мне умереть ни за что ни про что, тогда, когда я решила приносить хоть какую-то пользу! Неужели ты привел меня сюда, заставил проделать весь этот путь, чтобы все закончилось вот так?… Нет! Я барабаню в стену тупика. Шаги приближаются, я бегу, спотыкаюсь. Чьи-то руки поднимают меня. Вонзается лезвие ножа. За что? Чего же ты хотел от меня? Изменить мою жизнь или забрать ее?
И я проваливаюсь в ночь без ответа.
***
Не знаю, слышишь ли ты меня, Натали, облегчает ли твое нынешнее состояние наше общение. Мне так гораздо удобнее, но тебя я ощущаю прежней. Несомненно более спокойной, более расслабленной; более уютной, но в полном владении своей душой, и это для меня главное.
Как видишь, известие о твоем исчезновении причинило больше боли, чем ты предполагала, и больше пользы. Сразу после получения факса от кардинала Фабиани твой друг Франк первым же рейсом вылетел в Мехико. Он осознал, сколь дорога ты ему, лишь когда потерял тебя. Отец Абригон встречал его в аэропорту вместе с начальником полиции, заверившим его, что похищение людей в Мексике – не редкость, но в большинстве случаев пропавшего находят живым. Он не уточнил, в каком состоянии.
Они отвезли Франка в гостиницу, он заперся в твоем номере и долго рыдал на постели, уткнувшись носом в твои вещи. С теми же мыслями, что посетили и тебя два дня назад: зачем было терять столько времени, зачем было все портить, приносить свою любовь в жертву окружению, принципам, угрызениям совести?
А потом в дверь постучался Кевин Уильямс. Он был бледен, терзаем между волнением и восторженностью под двойным ударом текилы и мистического криза. Он развернул на кровати увеличенный снимок глаза, показал Франку пятна, точки, обведенные силуэты, искусственные цвета. Он сказал, что обнаружил на роговице пятнадцатое отражение – то была ты. Очередное знамение, послание, сравнимое с тем, что несла индейская семья, предостережение и трагичное напоминание: ты покинула реальный мир, взгляд Девы, в которую ты отказывалась верить, втянул тебя внутрь полотна.