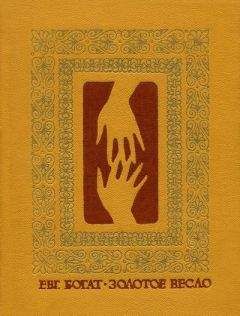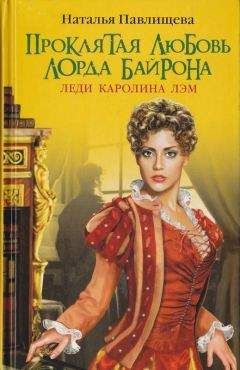«…Ты со мной в этом северном, забытом Аэрофлотом поселке, где из-за погоды я уже трое суток не видел ни самолета, ни вертолета, ничего, что дало бы мне надежду получить письмо от тебя и послать тебе мое. Разумеется, не это, безумное, а обычное, суховато-лаконичное и трезвое, одно из тех бездарных писем современного мужчины, получив которое женщина ревет от обиды.
Сейчас я лежал и старался тебя забыть, хотя бы на несколько минут, опять думал о женщинах, которых любил когда-то — тысячу, пятьсот, сто лет назад, и, конечно, обманывал себя, потому что думал о тебе. Но однажды, когда ты была рядом, я действительно забыл тебя ради них. Мы шли, уже уставшие, по зимнему лесу, и мне показалось, что большие, вечереющие ели были когда-то женщинами и вот теперь шумят, рассказывают мне о похищениях, разрывах, каретах, кострах… Потом я очнулся и подумал, что и ты будешь когда-нибудь елью, расскажешь шумом ветвей… и ощутил тогда великую вину перед тобой от мысли, что тебе из-за меня не о чем будет рассказать. Дело, конечно, не в том, что я тебя никогда не похищал и ты не шла ради меня на костер. В моей беспокойной и бессловесной любви к тебе мало было доброты, человечности и, наверное, понимания. Я чувствую, что тебя люблю, люблю коленопреклоненно, лишь тогда, когда ты далеко и не летят самолеты. В аэропортах, в буран, в туман, в метель или вот как сейчас… Но что тебе от моей „нелетной любви“? Это ведь, должно быть, не то живое поклонение, о котором женщине хочется рассказать и через тысячу лет. А может быть, в нелетную погоду я возвращаюсь восторженным сердцем к тебе, потому что возвращаюсь к себе. Я говорю это не ради оправдания, хочу честно понять, почему в моей любви к тебе мало любви. Может быть, потому, что я часто ухожу от себя: в суету, в борьбу самолюбий, бешеный ритм дня? И работа тоже — то уносит меня, то возвращает: к себе и к тебе. Или лучше — к тебе и к себе. Но не подумай, что я жалуюсь на то, что родился именно в этот век. Никогда еще человек не ощущал в себе с такой полнотой человечество в его развитии, и более того, жизнь в ее восхождении, как сейчас.
Меня радует, что я могу почувствовать себя античным философом, лунным камнем, динозавром, старой яблоней, еретиком, дельфином, строителем готического собора, космическим архитектором… Я могу, расписав освещенную костром пещеру силуэтами оленей, выбежать на поле космодрома и ощутить тоску Фауста по вечности. Странный век, и странные мы существа, — ощущение тысяч существований и забвение себя самого. Порой даже думаешь: может быть, чересчур много для счастья? Мы бежим, нам некогда сосредоточиться, мы бежим и мир видим в ритме бега — отрывочно, мимолетно, размыто. Потом, может быть, я упаду и увижу, как Болконский: высокое с серыми облачками небо, и первой моей мыслью будет тоже — зачем я бежал? Может быть, с этого вопроса и начнется в моей жизни что-то подлинное, огромное…»
(Из письма погибшего в автомобильной катастрофе архитектора Виктора Д. к той, которую он любил.)
Я написал письма из Эрмитажа, чтобы углубить у читателей совершенно новое чувство, нарождающееся в человеке. Его можно назвать историческим чувством. Оно было неизвестно людям минувших веков. Но если бы не они, и мы бы никогда его не испытали. Историческое чувство — это осознание, переживание истории человечества как собственной истории. Богатство этого чувства составляют надежды, завоевания, победы — заблуждения, ошибки, потери; радости — и горести; уверенность — и сомнения; боль, мужество, поиски истины, бессонные ночи, бесстрашие сердец миллиардов людей, которые строили мир, наследованный сегодня нами и нашими детьми.
Когда это непередаваемое богатство умещается в одном человеческом сердце, перед нами подлинно современная личность.
Я назвал это чувство нарождающимся, потому что у него, как мне кажется, огромное будущее. В третьем тысячелетии оно станет достоянием любого человека и сообщит особую новую духовность и человечеству и личности. Когда Маркс писал о совершенном человеческом обществе — коммунизме как возвращении человека к самому себе, то не забывал четко упомянуть: «с сохранением всего богатства достигнутого развития».
Чтобы ощутить, углубить в себе историческое чувство, нужна работа души. И если наше путешествие сквозь века ей поможет, поклонимся за это Эрмитажу!
…В картине Ватто «Отплытие на Цитеру» есть одна особенно волнующая меня пара: он с тихой, умоляющей настойчивостью, как это бывает в самом начале, в первом озарении любви, поднимает ее за руки с земли, с травы, чтобы вести по склону к берегу, к кораблю; она отклонила голову, нежно сопротивляясь… Потом она с ним пойдет к берегу; они поднимутся на корабль, они поплывут к острову любви, вырисовывающемуся в тумане, как чудное фантастическое видение.
И я верю, что чересчур долгое путешествие не утомит их сердца, не ослабит их любви.
Рассказ о «Сикстинской мадонне»
Это написано более двадцати лет назад; я решаюсь опубликовать один из самых первых литературных опытов, потому что он не только соответствует духу данной книги, но, как мне кажется, и углубляет его.
Федор Александрович Воронихин узнал, что ему нужно ехать на совещание в Москву, за три часа до отхода поезда.
Ехать должен был начальник соседнего участка, инженер Токарев, но он заболел, наглотавшись холодного ветра; послали Воронихина. Вечером на дощатом перроне Федор Александрович обнял жену, взглянул в ее лицо, тускло освещенное фонарем полустанка. Он чувствовал себя виноватым перед ней. Как мечтала она о Москве! И вот он едет один…
Воронихин не был в Москве много лет. Инженер-строитель, он часто менял местожительство, но все время оно почему-то оказывалось за тридевять земель от столицы. Теперь он строил город на Севере, по соседству с открытыми после войны залежами редких металлов.
Он жил, не думая о Москве, хотя на Арбате, в переулке его детства, по-прежнему каждую весну расцветала сирень… Он решил в душе, что забыл и этот переулок, и Москву. Но он ничего не забыл.
В ту минуту, когда поезд медленно вплыл в суматошную жизнь московского вокзала и Воронихин увидел через запыленное окно горящие на майском солнце бляхи носильщиков, сердце его упало…
Через час в общежитии министерства он составлял в уме план жизни в столице.
Первые два дня были ясны — совещание работало утром и вечером. Оставался третий день. Воронихин хотел пойти в Третьяковку и, если удастся, на выставку картин Дрезденской галереи. Из разговоров, услышанных в автобусе, он уже понял, что это почти неосуществимо: создавалось удивительное впечатление, будто вся Москва, забыв о тысяче будничных дел, волнуется, радуется, живет возможностью увидеть полотна Рафаэля, Веласкеса, Рембрандта.
В первый вечер столичной жизни можно было не спеша побродить по Москве…
Шел теплый нежданный дождь. В мокром черном асфальте плавали желтые пятна огней. Он поймал себя на том, что ступает осторожно и мягко, точно боясь их разбить…
В одиннадцатом часу утра с чувством робости, о котором постеснялся бы рассказать даже жене, Воронихин вошел в широкий и низкий, с темно-красными колоннами, вестибюль министерства. Он сел во втором ряду партера, чтобы лучше видеть и слышать. Начался доклад. Через час Воронихин почувствовал, что плечи его замлели: он обернулся и увидел в шестом ряду обращенное к нему ласковое открытое лицо, с нежным, почти девичьим румянцем на полных щеках. Рядом с окружавшими его полусосредоточенными, полусонными лицами оно выглядело ярко и весело. И Воронихин тоже улыбнулся: перед ним был Андрей Керженцев, товарищ студенческих лет…
Когда объявили перерыв, они кинулись навстречу друг другу, хотели обняться, но им помешали, и они пошли к выходу в шумном, веселом потоке без умолку говоривших и смеявшихся людей.
В вестибюле, у одной из колонн, Керженцев поймал галстук Воронихина, с силой потянул к себе, потом отпустил и, отступив назад, как тонкий ценитель перед картиной, стал сосредоточенно рассматривать его раздобревшую фигуру в черном старомодном костюме, его грубовато-доброе лицо с оттопыренной по-мальчишески нижней губой и чуть воспаленными веками. Эти красноватые веки делали чудо: ничем не замечательное, самое обыкновенное, в сущности, лицо казалось освещенным отблеском далекого огня… Оставшись доволен осмотром, Керженцев опять лучисто улыбнулся и воскликнул:
— Что же ты у меня не остановился, черт фиолетовый?
За широкую душу и любили студенты Керженцева в инженерно-строительном институте. Он не мог жить, не оказывая услуг окружающим людям. Делал он это беспорядочно и совершенно бескорыстно, часто забывая через день имя облагодетельствованного человека.
Ему ничего не стоило целую ночь делать чертежи для больного товарища, стоять двадцать часов в очереди за билетами на «Анну Каренину» для двоюродного брата, доцента, едущего через Москву из Одессы в Ярославль…