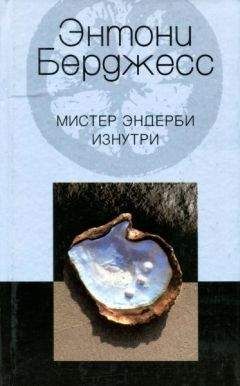— Тост, — провозгласил Роуклифф. — За что? La sacra poesía?[146] За богиню солнца? За духовную жизнь? За, — распустил он слюни, — приближающееся растворение? — И зашмыгал, и парни с сильными руками зашмыгали вместе с ним, — за… за…
Эндерби стал суровым: не понравилось ему это хныканье.
— Ох, заткнитесь, — крикнул он. — Опрокиньте стакан, черт возьми, и заткнитесь. — Сильные отцовские слова; полезное лекарство; разве он, Эндерби, не испробовал однажды смерти, хотя с бульканьем был вытащен обратно? — Ну, Роуклифф, проклятый предатель.
— Хорошо, Эндерби, хорошо, хорошо. Никакого фальшивого сострадания. Просто великолепно. — Роуклифф взял себя в руки, накачал в легкие воздуху, как бы пародируя собачье пыхтение, принял свое лекарство. Оно брызгало, струилось, mousse[147] била в нос, он выкашлял немного обратно в стакан, но играючи выпил до капли. Антонио поставил его пенный стакан. Роуклифф все хватал и хватал воздух ртом. — Поставь. На. — И откашлял, как сдачу, на стойку монету кровавой мокроты. — Я хочу сказать. Muerte. По. Пос. Пследнее. — И потянулся к креслу, слабо повернувшись. Парни подхватили его, потащили. Он лишь босыми пальцами касался пола, рухнув рядом с полным игрушек столиком возле кресла. Ковентри Патмор. — Псплю тпр. — И сразу захрапел. Парни забросили на складной стул его ноги. Эндерби решил лучше сейчас позвонить в Касабланку.
Темнело, когда Роуклифф вынырнул в последний раз. Эндерби выслал парней, до тошноты сытый хныканьем и заломленными руками. Сел возле кресла Роуклиффа с другой стороны, куря местные сигареты под названием «Спорт», вместо выпивки, содрогаясь при мысли о выпивке. Роуклифф вынырнул в состоянии — ужин приговоренного — ясности и покоя. И спросил:
— Кто это тут?
— Это я, Эндерби.
— Ах да, Эндерби. Хорошо знаю ваши стихи. Однажды украл у вас чертовски неплохую идею. Не раскаиваюсь. Сейчас кое-что дам взамен. Последний стих. Во сне пришел. Слушайте.
Прочистил горло, как оратор, и продекламировал медленно, но с силой:
Благословенье огней и
Ослиные шкуры,
Молочная галька прибоя.
Она не отвергнет меня, как какой-нибудь
Плодовитый народ.
Слишком много света, Эндерби. Выключите.
Ничего не горело.
— Выключил, — сказал Эндерби.
— Хорошо. Ну, на чем я остановился? А, знаю. Слушайте.
Слышу вдали, наконец, я взволнованный шум и веселье
Убийц и грабителей. Вижу того, кто открыто сказал в этом шуме:
«Твоя просьба исполнена», — а потом умер.
— Это, — сказал Эндерби, — Джордж Герберт.
Роуклифф вдруг взбесился.
— Нет, нет, нет, нет, ты, свинья долбаная. Это я. Я. — В сумерках завертелась его голова. Он спокойно сказал: — Твоя просьба исполнена, — а потом умер. Под обычный аккомпанемент дребезжавшей постлюдии жидкости в ротовой полости.
— И, — кричал Изи Уокер сквозь двигатели, — всякие там непотребные библисы. Один хмырь, браток, с полной варежкой всяких там как ваша тетушка Дорис и крошка Нора с близняшками. Так что мы, будь здоров, пристебываем, когда кто-нибудь шурупы отвинчивает.
Физическое вознесение Роуклиффа. Тело в чистой пижаме, завернутое в «Юнион Джек»[148], купленный Мануэлем за несколько дирхемов не где-нибудь, а в Тошниловке Большого Жирного Белого Пса, сидело рядом с Изи Уокером, на месте, по мнению Эндерби, второго пилота. По крайней мере, некое наполовину откушенное рулевое колесо или джойстик перед Роуклиффом подрагивало и поворачивалось соответственно колесу Изи Уокера. Еще на долю мертвого Роуклиффа приходились весьма оживленные датчики, измерители, указания на случай чрезвычайной ситуации, подчеркнутые восклицательными знаками. Руки связаны под флагом, тело привязано за шею, грудь, бедра и щиколотки. Никакого риска выпасть, если он, оно, вернется к жизни.
— Уверен, он точно навпрямки улепешился в старый мусорный ящик? — спросил Изи Уокер, пока они его привязывали. — А то бывали закидоны. И вот нынче снова, браток. Потом расскажу. Может, мастерски мне раскондыбишь.
Эндерби сидел на пустом месте за Роуклиффом. Самолетик был маленький, но аккуратненький, сделан в Америке, хотя в одной инструкции на приборной доске он заметил орфографическую ошибку: «зброс груза». Это его не заставило усомниться в летных качествах самолета, ибо вопрос всегда в том, чтоб каждый человек занимался своим собственным делом. Кажется, Изи Уокер владел делом пилотирования столь же профессионально, как всеми другими, в которых был профессионалом. Разговорчиво кричал сквозь моторы, даже когда разбегался по взлетной дорожке, набирая полетную скорость.
— Взаправду зафинтилился, вот как. Развеселую шарманку тебе целиком отвалил?
— Остается вопрос, — прокричал Эндерби. — С моей стороны, я имею в виду.
— Добро пожаловать в Птичью страну, — кричал Изи Уокер, когда самолет ткнулся носом в марокканский воздух цвета старого золота. Все позднее осеннее небо было в их распоряжении, кроме редких чаек и суетившихся далеко в порту коричневатых перелетных птиц, которые, отдохнув на вершине Гибралтара, пересекут пролив, отправившись зимовать в Африку. Рейсы «Эйр Марокко» гораздо позже. Внизу на обточенном в форме кабошона Средиземном море совсем мало судов, хотя по правому борту поблескивала вроде яхта богатого человека. Солнце еще не зашло. Тоненькая прошлой ночью луна не следила за вознесением Роуклиффа в небеса. Потолстев, она примется тщетно его вытаскивать из глубин, обглоданного рыбами, в истлевшем флаге. В самолетном радио трещал незнакомый английский язык танжерской диспетчерской. Изи Уокер его игнорировал. По корме лежала Сеута.
— Вот, — без усилий кричал он, — чего накарябал Мосол Сагден для своего алкаша-брата, когда тот засиропился. По-моему, вполне и этому подойдет. — И процитировал, заглушая мотор:
В бурной юности оторван от дел и от нас,
Стебельком травы скошен,
Сторожевому псу на растерзание брошен
Временем, гавканьем обозначившим час.
— Не совсем подходяще для Роуклиффа, — крикнул Эндерби. И действительно. Настоящее во всех антологиях, но, как бы Эндерби об этом ни кричал, ему никогда не перекричать Мосла Сагдена. Оно настоящее лишь потому, что единственное.
Пока, браток! Пускай светлая выпивка льется
Мыльной пеной Млечного Пути в одних звездах.
Дверь на весь радостный день распахнется,
Домохозяин больше не крикнет на небе,
что уже поздно.
— Не самое лучшее, — крикнул Эндерби, только не был услышан. Недостаточно темно, чересчур много смысла. Бедный Роуклифф. Скорее, предатель Роуклифф, но он расплатился. Твоя просьба исполнена. Какая просьба? Получить камеру, мельчайшую клеточку жизни. Эндерби слабо попробовал процитировать морю, небу и Изи Уокеру последний станс («долго землю чужую он потом своим поливал»), а потом понял, как это, фактически, неуместно. Его пот пропитается вскоре чужой солью. Ничего больше для Роуклиффа. Только останется что-то в костях, в трепещущих лохмотьях флага, на морской глубине меж двумя континентами. В своем роде поэма. Изи Уокер крикнул:
— Тип-топ. Готов высвистывать, браток? — Эндерби кивнул, позабыв, что Изи Уокер смотрит вперед, а зеркала заднего обзора перед ним нет. Тело Роуклиффа подпрыгнуло, навалилось на дверь по правому борту. Эндерби грубо толкнул, оно стало изящно клониться в сторону Изи Уокера. — Постромынивай, браток, постромынивай. — Эндерби с пыхтением потянулся, чтобы повернуть ручку дверцы, довольно тугую. Дверца неожиданно поддалась, распахнулась, на Эндерби набросился невидимый гигантский ревущий воздушный поток, но он глубоко впился ногтями в спинку кресла Роуклиффа. — Елочки-моталочки раскудрявенькие. — Изи Уокер сильно накренил самолет на правый борт. Теперь ледяной ураган дул по диагонали. Эндерби вцепился в тело под саваном флага, выталкивая, однако встречная струя подпирала его.
— Чтоб ты провалился, Роуклифф, — в последний раз пожелал Эндерби.
— В самую распопулечку, — пропел Изи Уокер и пнул мертвеца в голень. Потом еще сильней накренился. Эндерби колотил и толкал. Тело Роуклиффа как бы неохотно отправилось в довольно низменную область неба, безусловно ниже Парнаса. — Присусоливай, браток, — предложил Изи Уокер, имея в виду пространство. Грубый на сапфировом и бирюзовом фоне триколор медленно летел вниз. — Гигнулся. — Море приняло его беззвучно, едва раскрыв рот, словно для сигареты. Здесь покоится тот, чье имя не на воде написано, как говорил он когда-то в счастливые дни.