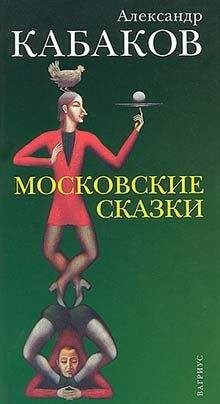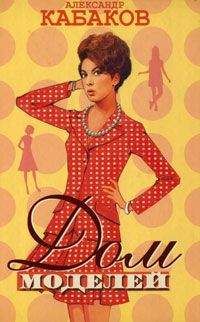— Брехня интеллигентская, — буркнул маршал, — деда твоего в честь балкона прозвали, а я из обычных крепостных…
— Дурак ты, Ваня, — не поворачивая мраморной головы, отвечал Устин Тимофеевич, — сколько раз я тебе говорил, чтобы не стеснялся ты своего дворянского происхождения. Уже давно нас, благородных, дворянством не упрекают, и в партию принимали безо всяких… Ладно, слушай дальше, Добролюбов, и понимай: все люди братья не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле! Потому что мужики от века блудили и сейчас блудят, и кто в результате этого разврата кем кому приходится — это один только Бог знает, да еще мы, кто уже спецкнигу прочитал, ясно тебе? Вот ты насчет Ани интересовался, моей покойной вдовы… А хочешь, я тебе всю правду скажу?
— Хочу, — вздохнул Добролюбов, уже чувствуя, что разговор этот ничем хорошим не кончится, и даже жалея, что ввязался в беседу с мертвецами.
— Ну, так слушай, — памятник встал в свой полный высокий рост и загремел, и каждое слово камнем падало на голову несчастного пенсионера. — Анечка моя, открою тебе секрет, будучи тогда юной дамой и мне женою, изменила супружескому долгу с неким Ивановым, от этой связи родился мой сын Тимофей, ныне известный деятель современной культуры, кем же еще ему быть, а названный Иванов — не припоминаешь? — угодил заслуженно в исправительно-трудовое учреждение, где познакомился с женою… ну, вспомнил? именно так, с Лаурой твоею, от чего и произошел в скором времени твой сынок Иван, который хотя и Иван, но к маршалу прямого отношения не имеет, а вот моему обалдую приходится полубратом, что нетрудно заметить и по внешности, Иванов же этот впоследствии погиб при сомнительных обстоятельствах и похоронен в колумбарии на Донском, а Аня померла тоже, однако предварительно спилась до того, что после смерти время от времени покидает здешний покой, чтобы у какого-нибудь грязного ларька хватить сто, а то и сто пятьдесят грамм, так что иногда ты ее можешь встретить среди живых алкоголиков где-нибудь в районе метро «Брюханово», знаешь этот район, где твой сын дом до неба строил да не достроил, а Иванов, между прочим, был на борту ковра, сбитого нашим маршалом, но в тот раз уцелел, а мы с тобой, значит, доводимся друг другу вроде бы кумовьями через наших, но чужих сыновей…
Тут, конечно, Добролюбов, хоть и отставной офицер, с тихим хрустом и без малейшего сознания повалился на гравийную кладбищенскую дорожку. А над лежащим в обмороке человеком долго еще грохотали слова истукана: «Все люди — братья и сестры, дядьки и тетки, любовники и любовницы! К вам обращаюсь я, друзья мои…» — видно, и покойник слегка тронулся умом.
А Эдуард Вилорович, придя через некоторое время отчасти в себя, предпринял ряд серьезных шагов.
Первым делом поехал он в Донской монастырь, разыскал в стене колумбария нескольких Ивановых и аккуратно на каждую доску с фамилией наплевал.
Затем, в вечернее время, когда внуки уже спали, невестка смотрела ток-шоу, а сын где-то отдыхал с друзьями, Добролюбов подступился к шее супруги с голыми руками. Однако Лаура Ивановна не растерялась: налила мужу валокордина, вдогонку дала новопассита, так что вскоре Эдуард Вилорович уже дремал на краю, как всегда, кровати и только неразборчиво повторял во сне «вот блядь, вот блядь».
Наконец, отчаявшись установить запоздалую справедливость, несчастный решил хотя бы проверить истинность трагических обстоятельств. Для этого он добыл журнал телепрограмм с фоторепортажем из жизни Тимофея Болконского (давно изменившего к лучшему одну букву в наследственной фамилии), клипмейкера и политтехнолога, светского мужчины. Затем Добролюбов потихоньку взял фотографию сына, сделанную во время отдыха на острове Мальта, и приложил к журнальной странице… О, ужас! Два совершенно одинаковых лица смотрели на беднягу. Еще, для пущей очевидности, у них и прически были одинаковые, под ноль по моде, и бородки — только у Вани шкиперская, в честь однофамильца, а у Тимы испанская, популярная среди политтехнологов.
Сомнений больше быть не могло.
Надежд не оставалось.
И мечта окрепла, сделалась единственной — оживить, оживить вечно живого ради хотя бы всеобщей справедливости, которой не пришлось на личную долю Добролюбова Э.В. Обманула индивидуальная судьба отставного надзирателя, обидела — так пусть же в масштабах человечества в целом восторжествует добро и счастье по заветам великого Ленина и под его же личным руководством!
Ах, мечты, мечты… Большая от вас беда.
Ночь пала на город, плывут в прожекторах башни и купола, темно-серебряные тени облаков несутся в сине-черном небе над площадью, спят все и по ту сторону стены, и по эту — а мечтатель не спит.
Вот гулко шагает он в пустом пространстве, с опаской минуя огромную человечью голову на Театральной — того и гляди, разинет идол скрытый в густой бороде рот да гаркнет: «Ученье мое, блин, всесильно, потому что верно, подлецы! Забыли? Вот я вам…» От памятников-то теперь всего ожидать можно…
Вот косится на скачущих с крыши коней — а ну, как стопчут? Эх вы, кони мои, как говорится, привередливые…
Вот крадется между железных ограждений, шаркает осторожно по мощеной выпуклости, подбирается к черным, наглухо сдвинутым дверям — и того не понимает, безумец, что нельзя тревожить вечность, что непереходимой должна быть черта меж метафорой и реальностью, что нельзя приставать к неживым. Ужо встанет! Размежит серые веки, глянет калмыцкими желтыми глазами, возьмет в бледный левый кулак рыжую бороденку, сунет большой правый палец в пройму жилетки… Ну-с, батенька, г-гассказывайте, что там, в массах? Как настг-гоение г-габочих? Тут-то и обосрешься. А не надо было будить спящего, пусть уж лежал бы себе под стеклом тихонько, если похоронить по-людски все не соберемся. Не буди лиха… Но не внемлет рассудку Добролюбов, да и чему он будет внимать, коли рассудок покинул его навеки? Последние крохи ума остались на проклятом Новодевичьем, пуста голова, только стук в ней отдается от шагов по брусчатке да перекатывается высохшим ядрышком ореха одна идея — оживить…
Вот с напряжением всех физических сил и применением заранее приготовленной фомки раздвигает он тяжелые черные двери, нет караула, давно устал и отпущен караул, входи, кто хочет, в святыню пролетариата…
Вот освещает взятым из сыновнего охотничьего снаряжения полицейским фонарем нутро капища — страшно тут, ох страшно. Тени шныряют по углам; багровые ткани драпировки кажутся в полутьме черными; какие-то крыла в невидимой подпотолочной вышине вроде бы простираются и тихо хлопают, гоняя по зале ветер, полный слабых ароматов тлена и пыли; шепоты вроде бы шелестят, скопившиеся от всего прогрессивного человечества; невидимые руки, липкие и холодные, прикасаются к плечам, передавая озноб всему организму; легкая паутина садится на лицо с мерзким щекотанием…
Вот луч света падает на стекло, вспыхивает стекло синим огнем, и сквозь этот огонь проступают дорогие каждому человеку доброй воли черты — костяной лоб макроцефала, булыжные скифские скулы, коричневая барабанная кожа щек, бледно-серая бульба носа, желтые волосенки бороды и усов. Спящий ты наш красавец!..
Вот взлетает верная фомка и безо всякого результата опускается на стеклянную броню, но не так-то прост старик Добролюбов, все предусмотрел: после пробного удара переходит к планомерным действиям, рекомендованным инструкциями для добрых молодцев, желающих разбудить царевну, то есть крестится немеющей в проклятом помещении рукою — да хрясь богатырским кулаком по хрусталю! И распадается спецматериал в мелкие брызги и дребезги…
Тогда подошло время целовать.
Вблизи кожа поразила крупностью и глубиной пор, характерными для людей с неправильным обменом веществ. Это показалось тем более странно, что обмен-то прекратился восемьдесят лет назад.
Пахнуло летучей химией, словно после подбривания бородки мужчина воспользовался не лосьоном «Нивея», а растворителем для лака или примитивным пятновыводителем.
Покровы встретили прикосновенье губ деревянной твердостью.
Мурашки, прошмыгнув по всей спине, ушли через подошвы в гранит.
И сбылось.
Труп сел, огляделся, не поднимая темных век, перекинул ноги в шевиотовых брюках через борт каменного корыта и с ловкостью опытного велосипедиста спрыгнул на пол.
Что ж, дог-гогой мой Добг-голюбов, ведите. Как говог-гится, ввяжемся, а там посмотг-гим.
Вот ужас-то!
Ястребиною лапой вцепился упырь в добролюбовское плечо, и пара, шагая в ногу, вышла на площадь.
Кровавым пламенем сверкали с башен звезды, робко поблескивали на Иверской орлы, скрылись во тьме осеняющие Казанскую Божью Матерь кресты, тускло отсвечивала до самого Василия Блаженного мощеная поверхность, и единственной опорой жизни сияло со стороны ГУМа популярное дорогое кафе.