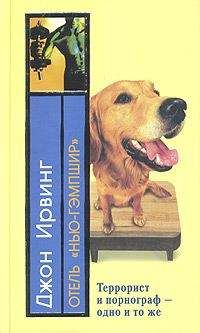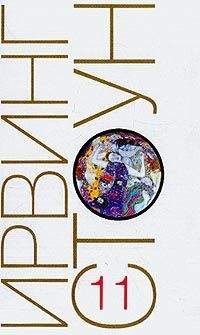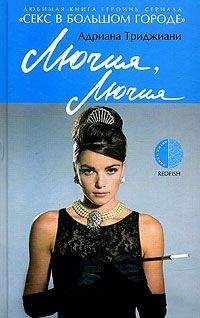Ознакомительная версия.
— Фрэнни? — прошептал я, потому что не мог ее видеть.
Ее рука погладила меня по щеке. Она скрючилась между стеной и изголовьем моей кровати; и как только она смогла туда протиснуться, не разбудив меня, я так никогда и не узнаю. Я повернулся к ней и унюхал, что она почистила зубы.
— Слушай, — прошептала она.
Я слышал сердцебиение, свое и Фрэнни, и глубоководное погружение Эгга в соседней комнате. И что-то еще, такое же мягкое, как дыханье Фрэнни.
— Это дождь, дурень, — сказала Фрэнни и погрузила колени мне в ребра. — Дождик, мальчик, — сказала она мне. — Это твой великий день!
— Еще темно, — сказал я. — Я еще сплю.
— Уже утро, — прошептала мне в ухо Фрэнни, затем укусила за щеку и начала щекотать меня под одеялом.
— Прекрати, Фрэнни! — сказал я.
— Дождик, дождик, дождик, — пропела она. — Не будь трусишкой. Мы с Фрэнком уже давно на ногах.
Она сказала, что Фрэнк — за пультом громкожалобной системы. Фрэнни вытащила меня из кровати, заставила почистить зубы и надеть тренировочный костюм, как будто я собираюсь, как обычно, делать пробежку по лестнице. Затем она отвела меня к Фрэнку в пультовую комнату, и они вдвоем отсчитали мне деньги и велели спрятать их в кроссовку, толстый сверток, в основном из одно— и пятидолларовых бумажек.
— Как я смогу бегать с этим в кроссовке? — спросил я.
— Ты не будешь сегодня бегать, разве ты забыл? — напомнила мне Фрэнни.
— Сколько здесь? — спросил я.
— Сначала выясни, берет ли она деньги, — сказала Фрэнни, — потом уж беспокойся, хватит ли тебе денег.
Фрэнк сидел за пультом, как чокнутый диспетчер на своей вышке в разгар воздушного налета.
— А что вы, ребята, собираетесь делать? — спросил я.
— Мы просто последим за тобой, — сказал Фрэнк. — Если ты действительно растеряешься, мы объявим пожарную тревогу или что-нибудь еще.
— Великолепно! — сказал я. — Мне это совершенно не нужно.
— Слушай, мальчик, — сказала Фрэнни. — Деньги наши, и мы имеем право послушать.
— Господи, — сказал я.
— У тебя все прекрасно получится, — сказала Фрэнни, — не нервничай.
— А что, если я просто неправильно понял? — спросил я.
— Я на самом деле так и думаю, — сказал Фрэнк. — В таком случае, — сказал он, — просто вынь деньги из кроссовки и бегай себе вверх-вниз по лестнице.
— Вот зануда, Фрэнк, — сказала Фрэнни, — замолкни и дай нам проверить спальни.
Клик, клик, клик, клик: Айова Боб снова изображал поезд метро, опущенный на несколько миль под землю; Макс Урик со своим потрескиванием, с окружавшими его радиопомехами; миссис Урик булькала за компанию с одной-двумя кастрюлями; постоялица в «ЗН», хмурая тетушка одного из учащихся школы Дейри, по имени Боуер, храпела, издавая звук, похожий на затачивание зубила.
— И… доброе утро, Ронда! — прошептала Фрэнни, когда Фрэнк переключил на ее комнату.
О, очаровательные звуки спящей Ронды Рей! Морской бриз, раздувающий шелк! Я почувствовал, как у меня начали потеть подмышки.
— Поднимайся, черт подери, туда, — сказала Фрэнни, — пока не кончился дождь.
«Как же, кончится», — подумал я, выглянув через парадное окно у крыльца: Элиот-парк был затоплен, вода струилась по обочинам и образовывала лужи на бывшей спортивной площадке; серое небо набухло от дождя. Я задумался, не сделать ли мне кружок-другой вверх и вниз по лестнице, не то чтобы в память прошлого, а просто потому, что это был наиболее знакомый способ разбудить Ронду. Но когда я остановился перед ее дверью, мои пальцы онемели, и я уже тяжело дышал — «тяжелее, чем я думаю», как сказала мне потом Фрэнни; она сказала, что они с Фрэнком могли слышать меня через прослушивающую систему еще до того, как Ронда проснулась и открыла дверь.
— Это либо Джоник, либо поезд без машиниста, — прошептала Ронда Рей, прежде чем меня впустить, но я не мог говорить. Я уже задыхался, как будто бегал по лестнице все утро.
В ее комнате было темно, но я разглядел, что на Ронде Рей голубая рубашка. Ее утреннее дыхание слегка кислило, но для меня этот запах был милым, и сама она пахла для меня мило, хотя, как мне пришло в голову потом, ее запах был запахом Фрэнни, но на несколько более поздней стадии.
— Господи, какие холодные коленки из-за этих коротких штанишек! — сказала Ронда Рей. — Иди сюда и согрейся.
Я вылез из своих кроссовок, и она сказала:
— Господи, какие холодные руки из-за этой рубашки без рукавов!
И я вылез из нее тоже. Я вылез из своих кроссовок, умудрившись спрятать скрученные деньги, засунув их в носок.
Я спрашиваю себя: не эти ли любовные утехи под включенной прослушивающей системой так окрасили с тех пор мои сексуальные чувства. Даже теперь, когда мне почти сорок, в постели я склонен шептать. Помню, я умолял Ронду тоже говорить шепотом.
— Я готова была закричать тебе: «Говори громче!» — сказала потом мне Фрэнни. — Весь этот дурацкий шепот чуть не свел меня с ума.
Но было многое, что я мог бы сказать Ронде Рей, если бы знал, что Фрэнни нас не подслушивает. Я ни разу не подумал по-настоящему о Фрэнке, хотя я всегда мог представить себе его, всю свою жизнь, когда мы были рядом и когда в разлуке, устроившегося где-нибудь у прослушивающего устройства. Я представляю себе Фрэнка, подслушивающего чью-то любовь все с тем же недовольным выражением на лице, которое сопровождало большинство его действий; неясное, но широко разлившееся недовольство, почти граничащее с отвращением.
— Ты скор, Джоник. Ты очень скор, — сказала мне Ронда Рей.
— Пожалуйста, говори шепотом, — попросил я ее, заглушая свой голос, уткнувшись в ее странно окрашенные волосы.
Своей сексуальной нервозностью я обязан этому дебюту. Меня преследует чувство, от которого я никак не могу убежать: мне кажется, что за мной наблюдают, следят за тем, что я говорю и делаю… Или чувство, что я могу предать Фрэнни. Это из-за свидания с Рондой Рей в том первом отеле «Нью-Гэмпшир» я всегда воображаю, будто Фрэнни подсматривает за мной.
— Звучало несколько приглушенно, — скажет мне потом Фрэнни, — но я уверена, что для первого раза все прошло хорошо.
— Спасибо, что не стала меня учить по интеркому, — сказал я ей.
— Ты действительно думаешь, что я могла бы такое сделать? — спросила она меня, и я извинился.
Но я никогда не знал заранее, что именно могла бы сделать Фрэнни, а что нет.
— Как идут дела с собакой, Фрэнк? — продолжал я спрашивать, по мере того как Рождество приближалось.
— А как тебе перешептывается? — спрашивал Фрэнк. — Я заметил, что большинство последних дней дождливые.
Или — если дождь в тот год перед Рождеством выпадал и не так часто — признаюсь, что я брал на себя вольность интерпретировать снег почти как дождь; а иногда даже и пасмурное утро, которое, возможно, обещало в дальнейшем дождь или снег. Именно тогда, перед самым Рождеством, когда я уже давно отдал Фрэнку и Фрэнни занятые у них деньги, которые я в то памятное утро запихал в носок кроссовки, Ронда сказала мне:
— Ты знаешь, Джоник, официанткам принято давать на чай?
И я сразу уловил ситуацию; мне было интересно, подслушивала Фрэнни меня в то утро или нет и услышала ли она характерный шелест бумажных купюр.
Я истратил все свои рождественские деньги на Ронду Рей.
Конечно, я купил какие-то мелочи для матери и отца. Мы не очень расходовались на подарки: главное было подарить хотя бы какую-нибудь ерунду. Я придумал подарить отцу передник, чтобы он носил его за стойкой бара в отеле «Нью-Гэмпшир» — один из тех передников, которые всегда украшает глупый лозунг. Я придумал подарить матери фарфорового медведя. Фрэнк всегда дарил отцу галстук, а матери — шарф, а мать всегда передаривала шарф Фрэнни, которая носила их во всех случаях жизни, а отец передаривал галстук Фрэнку, который очень любил галстуки.
На Рождество 1956 года мы приготовили особый подарок для Айовы Боба: увеличенную фотографию в рамке, на которой было изображено, как Младший Джонс делает свой единственный победный бросок в игре школы Дейри и Эксетера. Этот подарок был, пожалуй, и не таким уж ерундовым, но все остальные — были. Фрэнни купила для матери сексуальное платье, которая та никогда бы не одела. Фрэнни надеялась, что мать отдаст это платье ей, но мать ни за что бы не позволила ей такое носить.
— Она может надевать его для отца, когда они навещают старый добрый номер «три-Е», — сказала мне Фрэнни, находясь в ворчливом настроении.
Отец купил Фрэнку, который так обожал всевозможные переодевания, форму водителя автобуса; Фрэнк надевал ее, когда изображал портье в отеле «Нью-Гэмпшир». В те редкие случаи, когда у нас на ночь оставалось больше одного постояльца, Фрэнк любил воображать, будто у нас в отеле «Нью-Гэмпшир» есть постоянный портье. Форма водителя автобуса была старого доброго цвета, смертельно-серого; брюки и рукава у пиджака были для Фрэнка коротковаты, кепка слишком велика, так что, когда Фрэнк принимал гостей, то имел зловещий, поношенно-похоронно-гостиничный вид.
Ознакомительная версия.