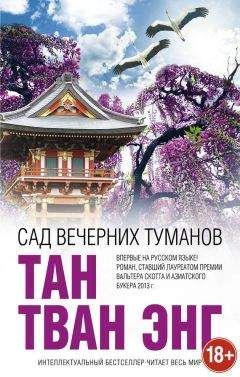Когда мы вдвоем стояли на рубеже стрельбища, мне представлялось, что мы выглядим как пара бронзовых лучников на его столе. Я радовалась, видя, как стрелы летят из моего лука.
Поначалу было трудно: стрелы зачастую разлетались во все стороны или падали, не долетев до матто[163].
– Вы слишком рано утрачиваете связь со стрелой, – говорил Аритомо. – Сохраняйте ее в своем сознании, говорите, куда ей лететь, и направляйте на всем пути до матто. А когда она поразит цель, оставайтесь вместе со стрелой еще мгновение.
– Она не живая, – ворчала я. – Она никого не слушается.
Жестом попросив меня посторониться, он поднял свой кю и вставил стрелу в тетиву. Натянул тетиву до предела – когда лук согнулся, с его жестких оплеток в воздух взлетели облачка мельчайшей пыли. Навел стрелу на матто и закрыл глаза. Я слышала, как удлинялось и стихало его дыхание, все тише и тише, пока не стало казаться, будто Аритомо и вовсе перестал дышать.
«Пускай стрелу, – мысленно подгоняла я его. – Пускай!»
Улыбка заиграла на его губах: «Еще рано».
Уверена, что я не видела, как шевелятся его губы, а вот что голос его звучал у меня в голове – это точно!
Держа глаза закрытыми, Аритомо спустил тетиву.
Почти сразу же я услышала, как стрела поразила матто. Аритомо открыл глаза, и мы оба повернулись посмотреть на мишень в шестидесяти футах[164] от нас. Оперенный конец стрелы торчал из нее, тень ее линией прочертила круг, превратив мишень в циферблат солнечных часов. Даже с того места, где стояла я, было видно, что он послал стрелу в самое яблочко.
В дни, когда лил слишком сильный дождь, чтобы работать в саду, Аритомо проводил уроки у себя в кабинете. Войдя в комнату, он кланялся портрету императора, не обращая внимания на меня, отворачивавшуюся, чтобы скрыть свое негодование. Он подробно рассказывал об истории садоводства, приноравливая свои уроки к тому, чем мы занимались в саду до того, как погода загнала нас в помещение. Он учил меня тонкостям, разъяснял принципы и приемы, переданные ему отцом. Прикалывал к пробковой доске большой лист бумаги и сплошь покрывал его карандашными рисунками, передавая зрительно свое учение. Аритомо никогда не позволял мне сохранять эти рисунки: закончив урок, рвал лист в клочья.
Однажды в конце урока я заметила на столе листок бумаги, прижатый камнем. Вытащила его и поднесла к свету. Это оказался оттиск с изображением ирисов, на бумаге виднелись крапинки плесени, словно ржавые споры на листе папоротника.
– Ваш? – спросила я, памятуя о фонариках, сожженных нами в ночь Праздника середины осени несколько месяцев назад.
– Так, пустяк, не так давно сделал. Один коллекционер из Токио хочет его купить.
– У вас есть другие оттиски? Хотелось бы на них взглянуть.
Аритомо достал из коробки несколько гравюр. На них изображались не цветы, как я ожидала, а демоны, воины и разгневанные боги, размахивавшие над головами мечами и секирами. Мельком проглядев, я вернула ему оттиски, не скрывая своей неприязни.
– Персонажи наших мифов и народных сказок, – сказал он. – Воины и разбойники из «Суикоден», японского перевода китайского романа «Шуй ху чжуань»[165].
Название было стрелой, пущенной из моей юности.
– «Речные заводи», – произнесла я. Книга, классика китайской литературы, известная большинству китайцев, даже тем, кто вроде меня были немы на родном для себя языке. – Я прочла его, когда мне было пятнадцать лет. В переводе Уэйли. До конца не дочитала, но не думаю, что в книге были рисунки вроде этих.
– На старинных укиё-э часто изображались герои этого романа, – сказал Аритомо. Подумал немного, достал из буфета футляр из сандалового дерева и поставил его на стол. Я была в кожаных перчатках, которые одевала, когда не работала в саду. И вот я стояла и смотрела, как он натягивает на руки пару нитяных перчаток, и отыскивала в выражении его лица хоть намек на насмешку, только ничего такого не было.
Аритомо отпер футляр и осторожно достал из него книгу.
– Это экземпляр «Суикоден». Ему уже два века, – сказал он. – Иллюстрации были вручную сделаны самим Хокусаем.
Видя, что я понятия не имею, о ком он говорит, Аритомо вздохнул:
– Вы, должно быть, видели картину, изображающую большую волну, неподвижно застывшую перед тем, как обрушиться обратно в море. Внутрь этой волны попала небольшая лодка, в отдалении видна гора Фудзи.
– Конечно, видела. Картина известная.
– Так вот, создал ее Хокусай.
Аритомо навел на меня обтянутый белым хлопком палец:
– Большинство людей считают, что знают этого художника, хотя бы по его картине «Внутри большой волны из глубин моря». Но он создал намного больше этого.
Аритомо подтолкнул книгу по столу ко мне. Вертикальная линия выполненного красной краской японского письма нисходила по одну сторону серой обложки. Книга раскрывалась справа налево, и первая укиё-э изображала вид на узкую гору с прилепившимся к ее склону малюсеньким храмом. Комната застыла в тишине, пока я листала страницы книги.
– Гравюры выписаны очень подробно, – заметила я.
– Художнику, в зависимости от цветов, какие ему нужно было получить, и от эффектов, каких ему нужно было достичь, приходилось вырезать не одно деревянное клише.
– Похожи на японские татуировки, – сказала я. – Ирезуми, они ведь так называются?
– Это, – он скосил на меня глаз, – неучтивое слово. Не пользуйтесь им. Никогда. Художники-татуировщики называют это хоримоно – то, что украшено резьбой.
– Хоримоно, – повторила я. Слово было такое чужое, мой язык был так непривычен к его выражению – совсем как когда-то звучало для меня имя этого садовника…
– Когда шли процессы по военным преступлениям в К-Л, – заговорила я, – мне пришлось записывать показания одного японского военнопленного. Охранники сняли с него рубашку, так у него грудь, руки и спина были покрыты татуировками птиц и цветов и даже скалящегося демона. Позже один из охранников сказал мне, что у того мужчины татуировки покрывали все тело – и бедра, и ягодицы, и ноги.
– Это необычно для тех, кто служит в армии, – заметил Аритомо. – Татуировки по всему телу бывают только у преступников и отбросов общества.
– Те татуировки казались… живыми.
– Должно быть, малому повезло на хороти, мастера татуировок.
– У Магнуса есть татуировка, – сказала я. – Вы знали об этом?
– Вы ее видели? – зыркнул на меня Аритомо.
– Он приезжал в выходные на Пенанг. Мне тогда было лет шестнадцать-семнадцать. Он пригласил нас на чай в гостиничное кафе.
Садовник, скрестив руки на груди, ожидал моих объяснений.
Вентиляторы под потолком фойе гостиницы вели изначально проигранное сражение с насыщенным влагой воздухом, латунные концы их деревянных лопастей отбрасывали блики света на стены и мраморный пол. Одетый в полотняный пиджак поверх белой сорочки из хлопка, темно-бордовый галстук и серые брюки с тщательно отутюженными стрелками, Магнус не совсем отвечал тому образу плантатора, который сложился у меня в голове. Черная шелковая повязка на правом глазу наделяла его плутоватым обаянием, и я не могла не заметить, как притягивала она взгляды других обитателей гостиницы, в особенности обитательниц.
– Вас только четверо? – обратился он к моей матери. – А где Кьян Хок?
– На севере, в Бату Ферринги[166], – ответила она. – Проводит летние сборы с кадетами на пляже.
Официант провел нас к столику на террасе у моря, где располагались европейцы и богатые семьи китайцев и малайцев. Двое мальчишек-китайчат, лет пяти-шести, гонялись друг за другом, лавируя между столиками и вызывая явное неодобрение европейских матрон. По узкой полоске воды между Пенангом и материковой Малайей мимо гостиницы проплывали лайнеры, сухогрузы и рейсовые пароходы-грузовички, одни шли из Индийского океана, другие – из Андаманского моря, все их пассажиры, я уверена, радовались входу в Малаккский пролив после недель и месяцев в открытом море.
– Как ваша плантация? – спросил мой отец. Моим родителям, похоже, было не по себе рядом с Магнусом, и от этого я еще острее чувствовала витавшую в воздухе натянутость.
– Вполне прилично, Бун Хау, – ответил Магнус. – Вам бы приехать и самим взглянуть.
– Стоило бы, – произнесла моя мать. Я узнала тон, каким это было сказано: так же ее голос звучал, когда она давала отцу обещания, выполнять которые у нее не было никакого намерения.
– А что у вас с глазом случилось?
Этот вопрос терзал меня с того самого момента, как я увидела Магнуса.