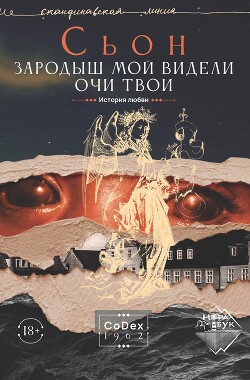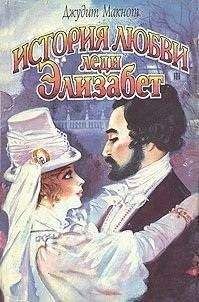Площадь исчезает из поля зрения отца, но на мгновение, когда колесо катафалка попадает на кочку, вдалеке мелькает крыша гостиницы. Там в окошке мансардной комнатушки мерцает огонек свечи. Мари-Софи – милое дитя – сидит на кровати, уронив лицо в раскрытую на коленях книжку. Огарок свечи на комоде отбрасывает блики на обстановку комнаты: стул, ночной горшок, платяной шкаф. Святой исчез с яркой картинки над кроватью, хижина, что раньше была в его ладонях, теперь лежит в руинах на поляне, а обитатели хижины валяются меж обломков, словно поленья.
Сиропно-желтый отблеск свечи не освещает ни лицо девушки, ни страницы книжки, он застыл на ее затылке – на заплетенных в косу волосах – и оставил лицо Мари-Софи в тени ее печально склоненной головы. Ангел Фройде теперь не охраняет выходящее на запад окошко, он больше не собирает в свою книжку сны, и даже если бы он вернулся, ничего бы для себя здесь не нашел: она не видит снов, она уже не проснется…
Как только окошко исчезает за вершиной холма, мотор глохнет и с губ бедолаги срывается имя девушки – словно облачко пара от земли, вспаханной после солнечного жаркого дня, – и он скрюченной птичьей рукой проводит по крышке шляпной картонки: «Мари-Софи…».
Автомобиль беззвучно катится вниз, преодолевая последний участок дороги, оставшийся до берега реки. Со своего места Лёве видит тех, кто был на улице в ту давнюю ночь – четверых мужчин у полицейского участка. Трое из них – в форме военной полиции, они стоят на ступеньках участка, корчась от смеха над куском сардельки, которую один из них пристраивает на кончике носа другого. Четвертый – молодой человек у кромки тротуара, он застрял одной ногой в сточной канавке и выглядит так, будто похоронил в себе поэта. Его взгляд сосредоточен на улице, он улыбается уголком рта, что повернут к мужчинам в форме.
Когда машина, проезжая мимо, задевает своим кузовом предплечье молодого человека, который, кажется, совершенно измучен ожиданием, бедолага, переживая за него, морщит лоб. Лёве не знает, что этот житель Кюкенштадта знаком ему лучше всех, если не считать моей матери, это – Карл Маус. А Карл Маус никогда не узнает, что то, чего он так ждал все это время, уже появилось и исчезло, оставив после себя лишь черную полосу на его рукаве – словно траурную ленту. Он так и будет стоять и ждать.
Катафалк проезжает сквозь дорожное заграждение, замедляет ход и останавливается у самой реки. На воде у причала низко притоплена баржа. Ее рулевой, что сидел на поручне и курил трубку, когда прозвучал сигнал, теперь лежит на берегу, задумчиво уставившись на потухший в трубке табак.
Лёве вытягивается на подставке для гроба и пинает заднюю дверцу до тех пор, пока она не открывается, затем выползает из катафалка, зажав шляпную коробку под левой рукой, а правой волоча за собой сумку. Он осматривается в поисках какой-нибудь жизни – здесь нет никого, кто мог бы помочь несчастному бедняге, не знающему, куда он направляется.
Посередине реки бедолага видит серебристое перо ангела-хранителя Эльбы, а поперек пера, будто банка гребного судна, лежит черная, как смоль, волосина демона Эльбы. Перо по размеру с викингскую ладью, его очинок тянется до самого берега, как сходни. Туда-то и направляется мой отец со своими пожитками.
Он садится на волосину, пристраивает сумку на пере у своих ног и прижимает к груди шляпную коробку. Так ждет он какое-то время, но ничего не происходит: Эльба больше не течет к морю, плеск ее воды утих. Единственное движение в вечной ночи – сотрясающаяся в плаче грудная клетка бедолаги, единственный звук – всхлипы, что вырываются из него и разносятся по обреченному континенту: над лесами и лугами, городами и селами, озерами и равнинами, холмами и горными вершинами. Европа становится Всхлипропой.
Долетев до Уральских гор на востоке и Гибралтара на юге, плач разворачивается, несется назад в поисках своего истока и сбрасывает моего отца с демоновой волосины. Он встает, раскидывает руки, захватывает рыдания в объятие, и они несут его, стоящего на пере, по направлению к морю:
Дýга-дýга-дуг, дýга-дуг,
Дýга-дýга-дуг, дý́га-прочь,
Дýга-дýга-прочь, прочь-и-прочь,
Дýга-прочь-и-прочь, прочь-и-прочь,
Прочь-и-прочь-и-прочь, прочь-и-прочь…
* * *
Серебристая плавучая посудина, покачиваясь, выходит в Северное море. У берегов Дании, в пределах видимости от городков Натмад и Бамседренг пришвартовано судно. В ночи горят его навигационные огни, каждый иллюминатор блещет светом, на мачте и леерах развешаны разноцветные лампочки, на черном корпусе белеет название: GOÐAFOSS.
Бедолага сидит на волосине, съежившись, утратив всякое ощущение реальности, и лишь после того, как перо, ткнувшись в черный борт, начинает отходить от него, увлекаемое приливной волной, звуки турбины и корабельного гудка приводят отца в чувство. Соскочив с волосины и ухватившись за нее обеими руками, он отчаянно гребет ею обратно к судну, а затем, подняв из воды свое «весло», принимается изо всех сил колотить им по корпусу.
Бедолага немалое время стучит по борту без особого успеха – лишь порядком расцарапав букву «А» в названии. Наконец он видит, как наверху мелькает силуэт человека. Через мгновение кто-то выкидывает за борт веревочную лестницу, и по ней начинает спускаться матрос. Не обратив никакого внимания ни на перо, ни на волосину – видимо, довелось повидать плавсредства и подиковиннее, – он обращается к моему отцу на причудливо певучем языке и с помощью жестов дает понять, что собирается поднять его на борт, перебросив через плечо, а сумку и коробку придется оставить. Когда же отец с криком «Нет!» заливается горькими слезами, незнакомец задумчивым взглядом окидывает тщедушную фигуру бедолаги, взваливает его вместе с пожитками на плечо и молча карабкается вверх по лестнице. Наверху их встречает другой матрос – точная копия первого.
Двойник перетаскивает отца через борт, ставит рядом с собой, одновременно приветствует его и смеется над ним. Бедолага совсем крошечный на палубе, вибрирующий звук турбины сотрясает его от подошв до самой макушки, рулевая рубка вздымается над ним горой, изобилие огней режет глаза, а на мачте развевается флаг с проклятым символом [10].
Матросы, обхватив отца за плечи, кричат одновременно в оба уха, каждый со своей стороны:
– Кальт? [11]
Это слово бедолага понимает, но ответить не успевает. Они заводят его внутрь – там тепло. Из корабельных недр доносится бодрая танцевальная музыка и гомон пьяных голосов. Отец вопросительно смотрит на матросов, но те лишь пожимают плечами и подталкивают его перед собой по узкому проходу, за угол, вниз по трапу, вниз по трапу, вниз по трапу.
По мере того как они спускаются все ниже в чрево корабля, шум веселья нарастает, пока не превращается в сплошной непреходящий кутежный гул. Когда они добираются до кают-компании, глаз бедолаги, скошенный на украшенное матовым орнаментом стекло двери, схватывает такую картину: человек в костюме обезьяны перелетает в сальто-мортале через двухметрового чернокожего мужчину в котелке.
Матросы проводят бедолагу мимо кают-компании, продолжая путь дальше по коридору, и он с облегчением вздыхает: хотя вид у него совершенно дурацкий, для такой вечеринки он все же одет недостаточно нелепо.
* * *
Двое мужчин стоят в дверях каюты.
Внутри каюты над раскрытой сумкой горбится человек в лохмотьях.
Порывшись, он достает по очереди то одно, то другое и показывает им: узловатый корень, похожий на человека со скрещенными ногами, медную гравюру с изображением белой змеи и безногого тролля, банку с золотистым растением…
Двое отрицательно качают головами.
Он вопросительно поднимает брови, разводит руками – на левом мизинце сверкает перстень. Они указывают на перстень, они кивают головами.