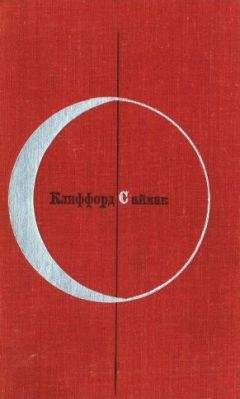Виргиния, Вулф о природе, всегда взаимодействующей с настроением тургеневских героев; – к сталинскому обрубку Молотову, взявшему на себя во время войны огласить один из излюбленнейших по кровожадности лозунгов Хозяина “у нас нет пленных, у нас есть предатели родины”, не пискнувшему, когда жену закатали в ГУЛАГ, оставившему свой след в истории только тупым орудием убийства, бутылками с горючей смесью, прозванными “коктейль Молотова”, – какое имеет отношение? Какое – если не то, что одинаковые комбинации одних и тех же элементов Периодической системы
Менделеева не могут дать сопоставимых результатов по той простой причине, что конкретная жизнь – не что другое, как парадоксальное ускользание от всего элементарного, комбинационного и систематического? И бурный понос сразу у пяти людей, причем исключительно русских, что придает ему размах дикой стихии,- это единственно необоримое конкретное средство борьбы с “изувечением” музыки “этим ужасным господином, этим ужасным дирижером”, который может только испортить, “да, испортить всю вещь – нет, никогда, н-не пойду, ни за что!”.
Вульгарная диарея – чтобы предотвратить диарею вульгарного дирижирования.
Эксцентричность, однако, как ни привлекательна она была Берлину тем, что без нее местоположение центра никогда до конца не точно, он ни в коем случае не соглашался принимать в ущерб центру, тем более не давал ей подменять центр. В миропорядке
Ахматовой, столь же убедительно реальном, сколь убедительно мифологизированном, Саломея Андронникова, по слову Мандельштама,
“нежная европеянка”, по ахматовскому, “красавица тринадцатого года”, была неким связующим звеном между Берлином и ею,
Ахматовой, и, во всяком случае, занимала место в его жизни прежде всего как ее давняя петербургская подруга. Так это выглядело по ее версии. Из его рассказа этого никак не следовало. Я спросил, как они познакомились.
“- В Нью-Йорке. На ней женился такой человек Гальперн. Гальперн был вот что. Александр Яковлевич Гальперн. Он был юрист, он был адвокат. Его отец тоже был довольно знаменитый русский еврейский адвокат, был дворянин, из немногих еврейских дворян. Он служил в
Британском посольстве как советник, и этот сын тоже – когда началась революция. Я думаю, что в пятом-шестом году он был довольно левым, потом немножко поправел. Потом во время революции, когда убили, я думаю, этого британского атташе, убили советские солдаты и матросы, он решил, что немножко опасно.
Уехал в Англию и занимался тут международным правом. Может быть, работал для разведки тоже. Саломея была в Париже, она уехала из
России – я думаю, в восемнадцатом-девятнадцатом году. Без паспорта. И дружила с разными русскими в Париже. И он ее обожал, абсолютно обожал. Они поженились в тридцатых годах, я думаю.
– Ей было лет сорок пять.
– Может быть, раньше. Он был единственный человек, на которого можно было положиться. Она продолжала жить в Париже, а он в
Лондоне, она к нему приезжала на месяц, на два, не больше. Потом началась война, он уехал в Нью-Йорк под видом какого-то еврейского общества, в котором он служил, ОРТ, было такое
Общество Работы и Труда, его основали для евреев, которые приехали из бедной страны. И она приехала из Парижа как его жена, они жили вместе, в Нью-Йорке.
– И вы познакомились с ней.
– Я познакомился с ним. Кто-то сказал, тут есть интересный русский еврей, он вам понравится…
– Она, действительно, была так пленительна?
– Да, прелестна она была, но не была красавицей большой, она была такая belle laide, прекрасная не красавица, она была очень выразительна, она была очень элегантная дама. И она за него вышла просто, я думаю, мне всегда казалось, что она вышла за него pour s’arranger. Уладить жизнь. Она его любила, он был честный, можно было на него положиться, у него было жалованье, он чем-то жил, с ним было спокойно. Ей. Но она в него не была влюблена. Он ее обожал до конца.
– Он умер много раньше ее?
– М-м… да.
– И вы стали ей помогать.
– Муж моей жены, второй муж, до меня, их встретил, они ему понравились, и он купил этот дом, в котором они жили”.
Я слушал это как комментарий – лучший, какой только можно вообразить,- к знаменитому ахматовскому стихотворению “Тень”, адресованному Саломее. “Прозрачный профиль твой за стеклами карет”; “Как спорили тогда – ты ангел или птица! Соломинкой тебя назвал поэт. Равно на всех сквозь черные ресницы дарьяльских глаз струился нежный свет”. Мир меняется перед взглядом людей, если какой-то поэт что-то сказал,- он это прекрасно знал, на него такое впечатление производила проза Вирджинии Вулф: читая ее, он видел улицу другими глазами, и дома, такое может быть, это эффект поэзии, но факт – другое.
По ходу его рассказа случился конфуз. Правда, возник он за четверть часа до этого, но тогда еще не выдал себя. Тогда зазвонил телефон, Берлин снял трубку: “Алё?.. Очень хорошо сделали… Нет, постойте, где вы?.. А, вы на Waterloo, да. Я, по-моему, встречу вас завтра? С Сильвой… Что?.. Да… Да… Мы увидимся завтра… Сильва вам скажет точно, где и как. Я очень рад, что вы живы, что вы в порядке, что вы живы, что вы в
Лондоне – очень хорошо… Да, да. Особенно я. Я так стар. Я невероятно стар, не понимаю, почему я жив, как я жив. Но все-таки, все-таки все собираюсь продолжать… Мы увидимся завтра, по-моему, в четыре часа, сейчас скажу точно когда, вы будете у нас на квартире, минуточку, погляжу когда”. (Я спросил:
“Это Люша?”) “Это Елена, да, называет себя Еленой, Люша, не называет себя Люшей… Точно в четыре. Да. Я вас помню”. Он повесил трубку и объяснил мне: “Как если б я не знал, кто она:
“Я Елена, я в Лондоне, я в Waterloo”…” Я сказал, что мы с ней сегодня оказались на одном самолете, и она, да, собиралась ему позвонить. “Люша” было домашнее имя Елены Чуковской, его знакомой, близкой подруги другой его хорошей знакомой, Сильвы.
Путаница заявила о себе как о таковой, когда телефон зазвонил еще раз. “Алё… Здрасьте…- сказал он.- Да, она мне уже позвонила… Люша… Это не вы звонили?.. Нет, нет, она сказала: когда мы встречаемся?.. Она позвонила с Ватерлоо… Она сказала: я… (Он повернулся ко мне: “Как ее имя?” – Елена.)…я Елена.
Я приехала… Уверяю вас… Она позвонила. Я с ней разговаривал.
Я ей сказал: в четыре часа тут. Завтра… Да… Да… Ну, так ее зовут в ее окружении, и вы сказали: я Елена. Почему вы это сказали, не знаю… “Я Елена”… Сказали мне… Кто ж это была?.. Какая-то другая? Так, вероятно, она тоже придет в четыре часа?.. Я понятия не имею, я ей сказал в четыре, но не сказал куда. Придет сюда – будет скандал… Завтра в четыре часа появляйтесь с ней сюда… Сюда… Очень хорошо… Очень хорошо.
Очень хорошо. Очень хорошо”. Он кончил разговор. Я сказал: “Я, вы знаете, что, боюсь, случилось – что в первый раз это была та
Елена-итальянка.
– Какой ужас.
– Может быть, я ее предупрежу.
– Вы ее будете видеть?
– Я должен ее увидеть.
– Скажите, что завтра я ее видеть не могу. Вы правы.
– Наверное, она.
– Вполне возможно. Скажите, что, к несчастью, я сделал ошибку, и не могу ее видеть. Чтобы она опять позвонила, и тогда я ей скажу, когда можно. Это будет одолжение огромное. А то может быть тут скандал.
– Скандал не скандал, но это будет ни к чему…”
Я подумал: что ж, если совершенно разные Елены могут так совпасть друг с другом, то ангел, птица, красавица тринадцатого года вполне может быть одновременно belle laide, которая выходит замуж pour s’arranger. Belle laide – это то самое, что laide mais charmante, как сказала Ахматова о жене Мандельштама, еще когда та была молоденькой. На минуту вся реальность – нематериальных телефонных голосов, ничем не сдерживаемых совмещений, поэтических образов – стала почти той же природы, что сон. И я вспомнил ахматовскую запись сна о Берлине: “Я вдруг почувствовала от этих странных слов, что я для него то же, что он для меня. И… меня разбудили”.
“- А когда вы впервые вообще вошли в отношения с русской эмиграцией?
– Не вошел, никогда. С эмиграцией как таковой – никогда. То есть мои родители знали разных рижских евреев, которые тоже жили недалеко от них в Хемпстеде, и этих от времени до времени я видел, но с русской эмиграцией как таковой у меня не было никаких отношений.
– Вы рассказывали о Святополке Мирском, как он читал у вас лекцию о Пушкине…
– Другие люди отрицают это.
– … может быть, исполните на бис?
– С удовольствием. Хотя это отрицают – не знаю, кто отрицает, но, помню, кто-то, который был там в Оксфорде, говорил, что этого не было. А я помню это очень, очень, для меня это яркое воспоминание, страшно было смешно. Он был абсолютно пьян, это было главное. Это была встреча в Oxford University Poetry
Society, Общество поэзии Оксфордского университета его пригласило. Это было в каком-то небольшом доме моего колледжа, и хозяин был некий сэр Томас (фамилию я не расслышал – Дарнет?) – и его ожидали. Он вошел, шатаясь, в комнату, было абсолютно всем ясно, что он пьян. Он не мог найти стула – к которому его подвели, к креслу – и посадили его туда. Потом было гробовое молчание. Потом председатель сказал: мы очень рады и горды, что князь Мирский нас посетил, он будет читать доклад о Пушкине. Но опять полное молчание. Нет – Мирский сказал, что он будет потом отвечать на вопросы. Председатель сказал: “Пушкин. Великий поэт”. Он сказал: “То, что Данте был для итальянцев, Гете был для немцев, Шекспир англичанам,- Пушкин!..” Он выпалил это слово, как пушка. “…Pushkin was for the Russians. Был для русских. Да, великий поэт”. Молчание. Председатель сказал: