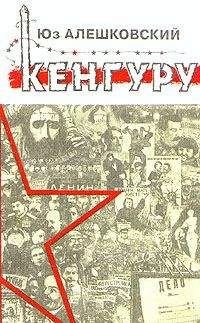Глушу, Коля, крыс, потому что, если их не глушить, то они все ноги обглодают, и просто потому, что противно. Я глушу, а товарищи рады. Фан Фаныч работает, они же, благодаря ему, трекают целую смену о расстановке сил на международной арене, трагедии Португалии, Испании, Югославии, скромности и простоте Ильича, нежном сердце Дзержинского, железной логике Сталина и что при коммунизме всех сразу освободят. Чернышевский также разработал в деталях ультиматум Англии. Ей предлагалось в недельный срок выкопать шкелетину Кырлы Мырлы с Хайгетского кладбища и переправить самолетом для перезахоронения на истинной родине социализма, на Красной площади, и положить, одев костюм с бородой, рядом с лучшим учеником в мавзолее. Если же Англия, сука такая, откажется выдать гениальную шкелетину, то с ней надо немедленно порвать все дипломатические отношения, а штат посольства держать как заложников до тех пор, пока английский народ не скажет своего гневного «Нет!» королеве и ее послушному рабу — парламенту. Ультиматум этот решили вручить Дзюбе для передачи Черчиллю. Если тот откажется передавать, сославшись на то, что нынче в огороде дел много, а баба беременна, тогда Чернышевский предложил вырвать из челюстей всех товарищей золотые фиксы и подкупить шоферюгу Пашку. Тот бросит конверт в ящик, и останется только ждать, когда палата общин вцепится в глотку папаты лордов. И все дела.
И еще Чернышевскому всю дорогу было интересно, как это я так метко и неожиданным поворотом на 180 поражаю обушком о крыс.
— Как вам это, Йорк, удается? Я говорю, что мне это удается потому, что я смотрю не вперед, как некоторые, а назад и хорошо вижу в абсолютной темноте,
— Английские товарищи могут вами гордиться, Йорк!
Тут я, Коля, немного пошухерил. Без шуток Фан Фаныч будет лежать исключительно в сырой земле, в деревянной дубленке и в последним шлепанцах, а пока жив Фан Фаныч, он, несмотря ни на какие удары рока, намерен восхищать свою бедную и несчастную душу волшебным смехом! Я что сделал? Нацарапал острым камушком на породе слова, сдул крошки, с понтом этим словам лет сто, и говорю коллегам по каторге:
— Обнаружена надпись на камне. Необходимо ее разобрать. Кто сможет?
Начал Чернышевский читать наощупь, шепчет, слышу, слезы глотает и говорит:
— Товарищи! Трудно в это поверить! Это кажется осязательной галлюцинацией! Слушайте же! Здесь написано дореволюционным русским языком: РАНЬШЕ СЯДЕШЬ — РАНЬШЕ ВЫЙДЕШЬ. КЮХЕЛЬБЕКЕР 1829 год.
— Товарищи! мы сделали не просто историческое или палеографическое открытие! Оно смело выходит за целый ряд замечательных рамок! Оно говорит о том, что обрусевший ум великого декабриста в условиях царской каторги, объективно являвшейся, как мы теперь видим, катализатором мыслительного процесса, оставил далеко позади себя громоздкую и многотомную диалектическую систему идеалиста Гегеля. Диалектика Кюхельбекера, этого духовного вождя политкаторжан, предельно проста: раньше сел — раньше вышел. Мы с вами не раз горько жалели, что не были на Сенатской площади. Но дело не в этом, не в нашей доброй партийной зависти к давно освободившимся товарищам. Дело в том, что наш Кюхельбекер открыл теорию относительности задолго до господина Эйнштейна. Ибо раньше» — категория времени, а «сесть и выйти» — категории пространства. Мы можем считать бессмертный афоризм Вильгельма универсальной формулой, объясняющей все закономерности общественно-политического процесса национальной и государственной жизни России. Я уж не говорю о том, что формула словесная лучше цифровой и не удалена на космические расстояния от широких масс. От каждого из нас. Теперь вы понимаете, что я был прав? Теперь вы понимаете железную логику, историческую правоту и мужество Сталина, скрепя сердце пошедшего на массовые репрессии намного раньше, чем ему советовали Бухарин и компания, и охватившего этими репрессиями все пространство первого в мире социалистического государства. Вот что такое марксистское понимание релятивизма времени и пространства! Господа Троцкие, Каменевы и Зиновьевы подбивали партию пойти на то, чтобы мы сели намного позже. Партия сказала им: «Нет!» И мы выйдем, товарищи, намного раньше. Карта врага бита. Да и остались ли у него козыри вообще? Да здравствует Кюхельбекер — великнй диалектик России и ее революционного процесса! Ой! Бейте Сартра! Куда же вы смотрите, Йорк? Бейте же Сартра! Это он! Он больно кусается!
Сартра, Коля, мне тогда глушануть не удалось, но хвост я ему, по-моему, перебил.
Дорогой мой! Ты заметил, что я начал трекать о крысином забое и прочей прелести, и мы с тобо й давно не пили за зверей, заключенных в клетку? Заметил. А что ты скажешь, если я тебе предложу выпить за крыс? Для зоопарков они интереса не представляют, их все больше держат в лабораториях для опытов, но, между прочим, Коля, какими бы омерзительными и гумозными не представлялись нам эти создания, им тоже больно от жизни, ран и голода, и если можно было бы взять мою боль, вот я прижег сигаретой ладошку, и боль крысы после того, как и ей — мерзости прижгли бы лапу, то, поверь мне, Коля, а я по твоим гнусным глазам вижу, что веришь, нельзя было бы отличить друг от друга две наших боли. Нельзя! Человеческая боль ни на слезинку, ни на крик или же обморок не больше боли бабочки, коровы, орла или крысы. Не больше. Это все, что я хорошо знаю. И ладошку, дурак, я себе прижег зря. Но зато давай выпьем за все живое и за то, чтоб любой живой твари или совсем не испытывать боли — ведь носятся же над всякими ромашками полян мотыльки и помирают, никем не обиженные, в свой час — или же испытывать любой живой твари боль эту как можно реже, Как можно реже.
Ты знаешь, Коля, я сейчас ни с того, ни с сего подумал, что у некоторых зверей в зоопарке тоже бывают свои большие перемены в жизни. То к хорошему, то к плохому. Вдруг шарах — и дергают тигра на этап. Загоняют гордую и непримиримую тварь из одной клетки в другую, на колесах, и волокут неизвестно куда. Не дай Бог попасть твари в передвижной зверинец. Это — вечный мучительный этап. Лучше просто в другой зоопарк. Там новая обстановка, может, климат мягче, а может, наоборот, скучно стало архангельским или мурманским гражданам без тигра. И тогда ему, бедняге, придется очень зябко. Бывает, конечно, в цирки тигров и прочих зверей дергают. Но и тут иди гадай, какой тебе начальник попадется и развращен ли надзор, половинящий твои кровные пайки. Бывает, попадает зверье из зоопарка в уголок Дурова. Но это главная звериная шарашка — для редких очевидцев. Слоны, скажем, живут долго, а уголку Дурова положено иметь только одного или двух. Другие же помногу лет дожидаются своей очереди и так и подыхают, не дождавшись. Так и с актрисами часто происходит. Ждут они, ждут, пока какая-нибудь Яблочкина на пенсию слиняет или в анатомический театр и много ролей тогда освободится, а Яблочкина, словно бы чует такие надежды, подъемный кран ее, развалину, на сцену поднимает, еле движется, челюстью шлямкает, суфлеру на язык наступает, чтобы погромче маячил, говорят, даже подгузники ей надевали перед особо трагическими сценами, но она исключительно назло пропадающим ни за грош молодым и ежеминутно стареющим актрискам, не желает линять из кремлевского трупа и вишневых курантов и так далее. Ей хочется, видите ли, истлеть до шкелетины на глазах у самого внимательного и взыскательного в мире советского зрителя. Чего я, собственно, растрекался о Яблочкиной? Извини, Коля. Я же, кажется, толковал о больших переменах в лагерной жизни слонов и тигров.
Одним словом — освобождаюсь. Причем воистину неожиданно. После того митинга, когда руки прочь от Белояниса и затоптали насмерть Марыськина, Дзюба к нам в барак больше не заявлялся. А в крысиный забой нас конвоировал немой сержант. Слышать он все слышал, стерва, а говорить не говорил. Приведет, пересчитает, хотя куда нам можно деться, неясно, и подпольная большевистская партячейка приняла к тому же резолюцию Чернышевского считать побег нарушением дисциплины, несовместимым с пребываиием в В.К.П.(б). Пересчитает, значит, нас немой, уйдет, через девять часов по-новой придет и пересчитает, примет дневную норму — убитых крыс — и в барак. Крыс, благодаря своему третьему шнифту, я глушил, как печенье перебирал на фабрике «Большевичка». Шарах между глаз обушком, и крыса с копыт. Стахановец. Времечко течет и течет, только считал я не дни и недели, даже не месяцы, к чему, собственно, было их считать, да и не по чему, а зиму-лето, зиму-лето. Как теперь поет молодела. Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это. Информашки не получаем никакой. Пару раз, впрочем, ветер заносил в зону обрывки заблеванной «Правды» и ржавой послеселедочной Комсосмолки». Так мои партийцы что-то узнали о корейской войне и работе Сталина насчет языкознания. Сам понимаешь, хавали они эту информашку с полгода. Дискуссии у них были, расколы, выговора, снятие выговоров, партконференция, какие-то саморефераты, самочистки и, наконец, Чернышевский всех убедил, что Сталин, как всегда, прав.