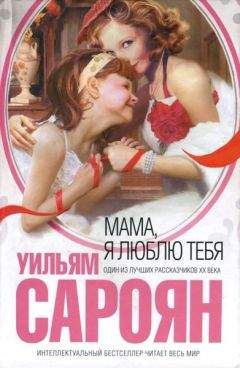Я никогда не забуду первый спектакль в Нью-Йорке. Занавес должен был подняться ровно в половине девятого, но не поднялся, потому что не приехали еще многие важные люди, особенно два знаменитых критика.
Через дырочку в занавесе Майк Макклэтчи то и дело поглядывал в зрительный зал. Он знал, где должны сидеть критики, но без четверти девять их места все еще пустовали. А Эмерсон Талли все ходил по сцене как заведенный, туда и обратно.
— Будущий отец, — сказала Кэйт Крэншоу, и тогда Эмерсон остановился и посмотрел на нее так, будто видел ее впервые в жизни. А мистер Мунго пританцовывал и напевал песенку из старого-старого водевиля. Миссис Коул сказала:
— Благодарение Богу за еще один спектакль в Нью-Йорке. Такой молодой я не чувствовала себя уже двадцать лет. Молодой — и усталой.
Мама Девочка листала программу — она вроде журнала, потому что в ней полным-полно рекламы, — и читала, что там написано про нашу труппу.
— Все, кроме нас с тобой, — знаменитости, — сказала она. — Миссис Коул в твоем возрасте уже играла Шекспира, и имя ее гремело по всему миру, еще когда она была намного моложе меня.
— Вообще-то нам пора начинать, — сказал Майк, — но мы не можем. Нам просто необходимо дождаться двух критиков.
Джо Трэпп обошел сцену и проверил костюмы, грим, декорации и все прочее.
Без конца приносили телеграммы — всем, даже мне. Мне — от всех, кто только был связан с пьесой, даже от Хелен Гомес. Она не отходила от мистера Макклэтчи, помогала ему во всем, напоминала про разные вещи и слушала, что он скажет. Она была нарядно одетая и выглядела молодой и красивой.
— Сколько сейчас времени? — спросил Майк.
— Без десяти девять, — ответила Хелен.
— Больше ждать мы не можем.
— Да нет же, публика не проявляет никакого нетерпения. Никто из них не скучает. Давайте уж дождемся критиков.
— А будут ли они? — усомнился Эмерсон.
— Конечно будут: ведь они еще ее не видели.
— А если мы не начнем сейчас же, то и не увидят — и это ничуть их не огорчит. Для них спектакль — это они сами. Знаешь, Майк, в следующей пьесе, которую я напишу, занавес в первом действии поднимается всего на пять минут. На сцене сидят два или три человека, они ничего не делают и ничего не говорят. Потом занавес поднимается еще на пять минут. На пустой сцене — ничего, кроме нескольких человек, которые посиживают, почитывают, поглядывают — и молчат. Занавес опускается еще на сорок пять минут, чтобы публика снова могла заняться собой, пожить в театре. Еще раз занавес поднимется перед третьим актом, который длится всего три минуты. На сцену выходит большая сонная собака, замечает зрителей, настроение у нее падает, и она укладывается спать — рядом с кошкой. Вот какая у меня будет следующая пьеса. Долой дурацкие пьесы, чего-то требующие от зрителя! Я напишу пьесу, которую зрители полюбят. Я из кожи лез, готовя спектакль для Нью-Йорка, но вы только посмотрите на них! Ни одна пьеса в мире не может рассчитывать и на малую долю того интереса, который они проявляют к самим себе. И это Нью-Йорк! Мне следовало родиться где-нибудь в захолустье.
— Вот они, — сказал Майк. Он махнул рукой электрику, тот нажал кнопку, и началась увертюра, и тогда Майк обнял Эмерсона за плечи, и они вместе подошли к нам, актерам.
— Все в порядке, леди и джентльмены. Публика здорова, критики на местах. Я знаю, что они полюбят вас так же, как и я. Желаю вам удачи в нашем первом нью-йоркском спектакле, к которому все мы столько готовились.
Я вышла на сцену, а мистер Мунго остался ждать за кулисами. Майк повернулся к рабочему сцены, поднял руку и через секунду, когда увертюра кончилась, опустил. Рабочий поднял занавес, и я осталась на сцене одна.
В зале не было ни одного пустого места. Я не смотрела туда, но это чувствовала. Я знала, что Глэдис и Хобарт — в первом ряду, и знала, что через проход от них Клара Кулбо со своим мужем: она и его притащила с собой в Нью-Йорк. Больше я не знала в зале никого, но все равно утихли все они очень быстро.
Когда занавес поднялся, будто волна накатилась на сцену: волна людей, теплого воздуха, ожидания, и еще звука. Это не был звук разговоров, это был звук дыхания или звук многих-многих людей, которыми зал набит сверху донизу. Это был звук молчания, которое наступает, когда люди вдруг перестают говорить. И еще были звуки кресел — от ерзающих или усаживающихся людей, и были движущиеся пятнышки света — это капельдинеры тихонько сажали запоздавших на их места.
Минуты две я не должна была ничего делать или говорить, а просто стоять спиной к публике и смотреть в окно. А потом, когда я сама решу, что уже пора, я должна была немножко попеть, со словами или без слов. Эмерсон говорил, чтобы я пела, как захочется мне самой.
— Чем тише, тем лучше, — сказал он мне еще в Бостоне.
А потом я должна была отвернуться от окна и окинуть взглядом комнату, очень бедную, в бедном доме. Начинался вечер, и дома никого не было. У меня был красно-белый резиновый мяч величиной раза в два больше апельсина, проколотый, так что подпрыгивал он не слишком хорошо. Я должна была поднять его, оглядеть и попробовать играть, ударить об пол, но только слегка, а потом ударить по-настоящему — но мяч, конечно, почти не прыгал, а только издавал тихий звук.
Но сразу же после этого с комнатой начинало что-то происходить. Стены раздвигались, а за ними оказывалась совсем другая комната, полная света, и в ней появлялись мои воображаемые друзья, только их нельзя было видеть — зато можно было слышать их голоса. Мы разговаривали, слушали музыку, танцевали и пели. Потом слышались шаги — и я знала, что это идет мой дедушка, мистер Мунго.
А чтобы комната стала такой, какой была раньше, я должна была снова ударить мячом об пол, но только я никак не могла найти его. Мистер Мунго вошел и посмотрел вокруг, и захотел узнать, почему все изменилось. Я спросила: но разве все не такое же самое, как всегда? Я нашла мяч, ударила им, и все стало как всегда. Мистер Мунго пощупал свою голову: он думал, это с ним что-то приключилось. Мы поговорили, а потом мистер Мунго сказал, что чем он старше, тем ближе к своему детству, и уверена ли я, что все не было другое, когда он вошел. Он обещал никому не говорить, все сохранить в секрете, и я сказала ему правду. Он осмотрел мяч, который сам подарил мне когда-то ко дню рождения. Он ударил им об пол, но ничего не произошло, и он попросил, чтобы ударила я сама. Я сказала, что не знаю, выйдет ли у меня что-нибудь, когда в комнате есть еще кто-то, но я попробую.
Я взяла мяч и подумала о своих друзьях, а потом ударила им об пол — и они появились, комната снова стала другой. Мистер Мунго достал из жилетного кармана свои большие часы и посмотрел на них, и сказал, что еще полчаса до того, как моя мама вернется с работы.
Так что теперь вместе со мной были и мистер Мунго, и мои друзья.
А потом появился друг мистера Мунго — только это была девушка, и она вошла к нам.
Это была девушка, которую он знал, когда ему было семнадцать лет, а ей пятнадцать, и она умерла — но сейчас стояла перед нами такая же красивая, как когда-то, а мистер Мунго был стариком. Она очень мне понравилась, но я не могла понять, почему не могут точно так же прийти и мои друзья. Мистер Мунго сказал, что для этого им нужно время. Ее звали Роз, и она пела и танцевала лучше всех на свете, и когда ты слышал ее голос, ты радовался, что живешь — «еще живешь», сказал мистер Мунго. Когда пришло время ей уходить, обоим нам стало грустно, и мистер Мунго высморкался и вытер глаза.
Первый акт прошел гладко как никогда. Мама Девочка, бедно одетая, пришла домой, но до того, как она вошла в комнату, мы успели ударить мячом об пол, и комната снова стала обычной. Мы разговаривали, а Мама Девочка еще и убиралась, потому что она не любила сидеть без дела. Мы говорили о погоде, о соседях, о том, что будем есть на ужин, и о сыне мистера Мунго, который был мужем Мамы Девочки и моим отцом, но уехал давным-давно, и никто не знал, где он. А потом Мама Девочка подняла с пола зеленый платочек, который обронила Роз, и спросила, чей он. Мы с мистером Мунго переглянулись, и тогда он сказал, что это платочек его приятельницы — миссис Коул. Мама Девочка засмеялась и отдала платочек ему, а потом произошло еще много всякого другого, и первый акт кончился. Захлопали так громко, что я напугалась: мы никогда не слышали, чтобы так хлопали даже в конце пьесы. А в антракте к нам пришли Майк, Эмерсон, Кэйт и Хелен Гомес, и они сказали, что спектакль идет просто здорово, как никогда, и Майк попросил Хелен выйти, пока антракт, в публику и послушать, что говорят. Когда уже вот-вот должны были поднять занавес, Хелен вернулась и сказала:
— Они в телячьем восторге, иначе не скажешь.
Во втором акте по мячу ударила нечаянно Мама Девочка, и все изменилось снова. Пришел сын мистера Мунго, и мистер Мунго заплакал как ребенок. Сначала я не понимала почему, но потом поняла: его сын был мертвый, и тогда я тоже чуть не заплакала, но все-таки сдержалась. Сдержалась, потому что он мой отец, и он мертвый, и мы с ним слишком гордые, чтобы плакать.