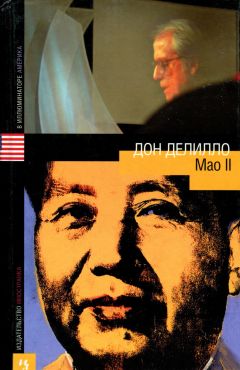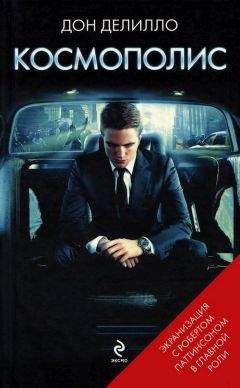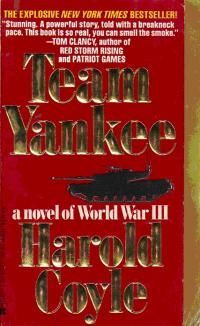- Откуда вы знаете, что он один?
- Ну разумеется, один. Он хочет остаться совсем один, чтобы забыть, как жить. Жить ему расхотелось. Он хочет от всего отказаться. Я совершенно уверена, что он один. Я этого человека сто лет знаю.
- Сейчас пойду налью вам ванну, - сказала Карен.
Скотт обрабатывал письма читателей. Завалил ими весь чердак, загромоздил шаткими стопками столы, каталожные шкафы, книжные полки. Раскладывал письма по странам. Затем нужно будет сложить каждую страну в хронологическом порядке, и тогда запросто удастся найти письмо, присланное, скажем, из Бельгии в 1972 году. В реальности вряд ли кому-то взбредет на ум искать такое письмо - или любую другую единицу читательской корреспонденции. Но бог с ними, с практическими соображениями, - главное, чтобы всякая вещь была на своем месте. Тогда в доме воцарится осмысленность. Разобравшись с чужими странами, он перейдет к своей. Штат за штатом, груды писем, накопившихся за десятилетия. Почти каждое послание выбивало Билла из колеи. Письма бесцеремонно нарушали его уединение, внушали, будто на Билле лежит ответственность за душу отправителя. Скотт, естественно, лишь посмеивался. Билл заглядывал, как правило, только в письма со штемпелями захолустных городишек и почтовых отделений на развилках шоссе, письма с широких просторов. Долго созерцал обратные адреса и отметки на конвертах. Любил декламировать названия, в которых звучит призрачная музыка отдаленных мест, поселков, где под небом цвета индиго жужжит и звенит лето. Ему хотелось верить, что лишь немногие - застенчивые старшеклассники, только что завербовавшиеся в армию солдаты, учительницы музыки из богом забытых городков - могут по- настоящему понять, о чем его книги.
В этот вечер Скотт перечитал письма сестры Билла. Потом перерыл всю спальню, разыскивая хоть какой-нибудь знак, намекающий, где сейчас Билл, или когда он позвонит, или позвонит ли вообще. Два верхних ящика комода были доверху забиты лекарствами - такого изобилия Скотт даже не ожидал. Он вчитался в названия. Ну прямо имена богов из научной фантастики. Скотт скользнул взглядом по учебникам, справочникам, тонким брошюркам - все исключительно о лекарствах. Ему-то были нужны личные письма и документы. На верхней полке встроенного шкафа не оказалось ничего, кроме пустого чемодана, а внизу, помимо обуви, только старый маленький вентилятор, покоившийся на аккуратно подостланном бумажном пакете. Скотт разыскивал запечатанный конверт с распоряжениями - сам подсмеиваясь над этой мыслью и этим выражением, но все же веря: нечто подобное ему где-то оставлено и когда-нибудь отыщется.
Уиллард Скэнси. Боксер на ринге под открытым небом, удушливый зной праздничного дня, зрители - море соломенных шляп.
О смене имени Скотт никогда никому не расскажет. Будет нем как рыба. Он и сам рад хранить молчание, даже сейчас, даже когда подступает подозрение, что Билл бросил его на произвол судьбы. Много лет Билл мог доверяться людям, зная, что ради него они будут держать язык за зубами. Хранение тайны имени - вот что воодушевит и ободрит Скотта, как никогда раньше приблизит его к Биллу.
Он пошел в кабинет и заново изучил диаграммы. Прочел открытки от Лиз. Потом составил список всего, что нужно сделать после того, как почта будет разобрана.
Карен ехала в такси - она обожала эти тряские желтые машины со стройными эфиопами за рулем. Обтянутые тканью рули - иногда на них еще пушистые чехлы надевают; приборные доски оклеены бумажными образками. На Таймс-сквер Карен покосилась на знакомое клинообразное здание, обвитое лентой из мерцающих букв. Иначе говоря, здание с экраном типа "бегущая строка", где высвечивались новости дня. Что-то о похоронах какого-то знаменитого человека, из такси толком не разглядеть, слова молниеносно скатываются по экрану за угол и продолжают свой бег, и в душе Карен будто что-то замерло - знаете, когда в новостях попадается что-то поразительное, ты как останавливаешься, в теле срабатывает стоп- кран, холодное бесстрастное волнение подготавливает тебя к чему-то значительному. Она попыталась было дождаться возвращения главной новости, но такси тронулось с места. В голове возникла картинка: люди скапливаются на площади.
Над городом бушевала полоумная буря. Хижины-коробки тряслись и содрогались под кулаками града, дубинами града. Она подумала: "Градины размером с градины". Слава синим чехлам из полиэтилена - иначе коробки размокли бы, превратились в кашу прямо над головами своих обитателей.
Мусор или пожитки здесь хранят в больших парусиновых сумках на колесах, добытых на почтамте.
Говорят сами с собой, бормочут себе под нос, кивают и говорят, говорят, одинокие человечки с их нескончаемыми монологами, всё пытаются сами себя переубедить, бурно жестикулируя.
Мессия - здесь, на земле, это коренастый мужчина из Республики Кореи, одетый в деловой костюм.
Иногда она просто стояла и смотрела на ложку. Она сказала Брите, что не станет забирать ее с собой, когда уедет. Теперь ложка, отделенная от мешковины, помещена в новый контекст - если опять ее переместить, возможны какие-то загадочные внутренние повреждения.
Она всюду расспрашивала об Омаре, но он как в воду канул. Лишь однажды попался на глаза - сидел со смуглой мексиканкой на пожарной лестнице, и Карен далеко не сразу упросила его спуститься и поговорить. Он сказал лишь, что теперь не торгует, точки у него больше нет. Найдется еще чем заняться, он тут улаживает кое-что. На Кони-Айленде одна от него забеременела, надо с этим разбираться; он умолк, и Карен ощутила глубину паузы всем телом, ее сердце взорвалось от ревности и от мучительной разлуки. А вдобавок один тип ходит и брешет, будто Омар украл у него пистолет. Кривой ствол на изоленте держится. Слушая его, она ощущала тяжесть всех этих кафельных коридоров и продырявленных дверей, наркоманских проулков, где женщины бросают детей, запеленатых в газетные сенсации. Он сказал ей, что не скучает по своей точке. Его переполняли дерзкие планы. Есть идеи, как из ничего сделать деньги. Слушая его, она по нему тосковала. Его взгляд все время соскальзывал куда-то в сторону; она догадалась, что он ее вовсе не видит. Странное ощущение - знать, что вот-вот исчезнешь навеки из поля зрения, мыслей, памяти; она- то об этом человеке будет думать часто, а он забудет, кто она такая, уже начал забывать, хотя она прямо перед ним. Все из-за неподъемной тяжести его жизни, все из-за оборотов речи, которых ей никогда не понять.
В метро, сквозь самый ужасающий грохот, - музыка. Она видела музыкантов под лестницами, кое-где в переходах; у них были синтезаторы, усилители, скрипки, шляпы с бубенцами, они виляли саксофонами, как собака хвостом. У турникетов, рьяно свидетельствуя о Господе, работали поющие проповедники. В грязи сидели люди с детскими ведерками, дожидаясь звона упавшей монетки. Музыканты держали свои вещи в магазинных тележках; в их музыку вплетался визг поездных тормозов и сиплые обрывки объявлений по громкоговорителю.
Предвестье мигрени она ощутила, когда была в мансарде одна. По могучим стволам небоскребов за окном взметнулось ртутное сияние. Она отошла от окна, ощущая, как по руке бежит ток. Увидела зигзаги серебряного света и тут же подумала о тексте, накручивающем круги на Таймс- сквер. И вдруг поняла, о чьих похоронах извещал экран. Увидела потоки слов-молний и имя, которое пропустила, когда ехала в такси, и фразу "Миллионы участников похорон с плачем и пением…". Вцепившись в подлокотник дивана, она четверть часа просидела не шевелясь, глядя, как слова текут поперек здания, срываются с края экрана и продолжают течь по той стороне. Та сторона тоже была ей видна. Потом накатили боль и тошнота. Чувство времени отключилось. Блеск - металлический, яркий. Sendero Luminoso. Прямо внутри нее, сияет со дна боли. Сияющий Путь, как красиво звучит.
Она почувствовала, что к ней присоединилась Брита. Но теперь ничего, теперь все о'кей. Она твердила: "О'кей". Это слово знают в очень многих странах.
В тот вечер они сидели бок о бок на диване, и телевизор вмешивался в разговор. Они разговаривали и смотрели. Потом увидели, что им показывают, и прислушались к голосу, наложенному на картинки.
Смерть Хомейни.
Тело аятоллы Рухоллы Хомейни покоится в стеклянном саркофаге, водруженном на высокую платформу над головами толпы, растянувшейся на много миль. Объектив не в состоянии вместить в кадр всю погребальную процессию. Угол съемки расширяется и расширяется, но пустое пространство вне скорбящей толпы все равно остается недосягаемым. Орда на экране безгранична, беспредельна и вдобавок неуклонно растет.
Голос произносит: "По предварительным
оценкам, число присутствующих…"; камера показывает толпы. Карен несложно отмотать биографии всех этих людей назад, увидеть, как они выходят из своих домов и хибарок, сливаются в потоки; а теперь еще отмотаем: они спят в своих постелях, слышат клич муэдзина, призывающий на утреннюю молитву, выходят из домов и собираются на какой-то пыльной площади, чтобы всем скопом покинуть трущобы.