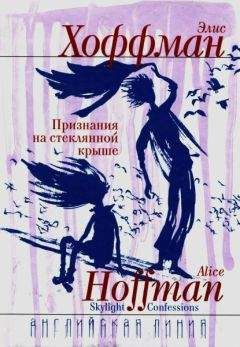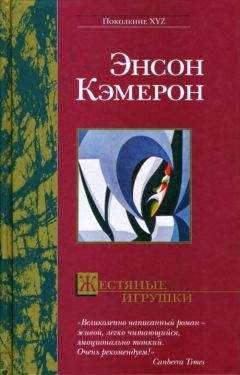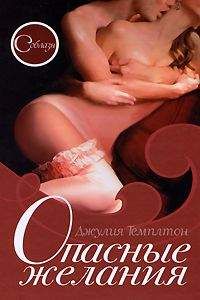Стеклянный Башмак — сколько б ни воздавали ему по-прежнему хвалу в воскресных выпусках местной газеты и в журналах по искусству — Бланка, конечно, не воспринимала как свой домашний очаг. Здесь все было чужое. Все не мило. Даже застав однажды у себя в комнате Лайзу, нарядившуюся в ее платье и размалеванную ее косметикой, Бланка без звука повернулась и ушла. Бери, ради бога, подумалось ей. Хоть все забирай.
— Ой, прости! — крикнула ей вдогонку Лайза, но таким обиженным тоном, словно это ее вещами распорядились без спроса. Лайза — девочка-головастик, долговязая и нескладная, с большими голубыми глазами и явно отцовская любимица. Джон Муди, которого редко видели дома, когда подрастали Сэм и Бланка, теперь исправно посещал все родительские собрания, все музыкальные утренники в Лайзиной школе. Возил Лайзу на рождественские каникулы в Диснейленд, оставив Синтию приглядывать за Бланкой. Как раз в то время Бланка отбилась от рук, искала случая сбежать куда-нибудь из дому, ночевала где придется — озлобленная, колючая, маясь черной завистью и чувствуя себя сиротой. Холодная, жесткая девица, которая только и ждала возможности распрощаться с Коннектикутом и уехать: сперва в Вирджинию, в университет, потом — в Лондон. Которая зареклась ехать назад и выковыривала сейчас жучков из книжных страниц с таким остервенением, что перепачкала все пальцы их иссиня-черной кровью, словно чернилами, которых, сколько руки ни мой, все равно не отмыть.
Джон Муди умер во дворе дома, построенного его отцом — увенчанного наградами здания, состоящего из прямых углов, стекла и неба. Дома, который Джон ненавидел, но покинуть не мог — отчасти из-за его архитектурной и исторической значимости, отчасти из-за того, что здесь вырос, но главным образом — потому, что стал пленником собственного неуспеха. День ото дня, стоило Джону лишь открыть глаза поутру, отцовский дом служил ему напоминанием, что сам он ничего стоящего на своем веку не создал. Вся его работа была вторичной — перепевом того, что создано отцом. Спроси его кто-нибудь, и он сказал бы, что не верит ни в какие там предназначения, что неотвратимость участи — это выдумка, каша, намешанная из смутных чаяний и предрассудков, что люди сами хозяева своей судьбы. И что же? Увяз, застрял, не в состоянии переменить хотя бы такую малость, как собственный адрес! Как будто жизнь Джона Муди была заранее описана в некой книге — словами, которые невозможно стереть. Нанесена кровавыми чернилами, невидимыми чернилами жизни и смерти. Начертана неколебимой рукой.
Один-единственный раз позволил себе Джон отклониться от лежащего перед ним пути — когда заплутал, направляясь на вечеринку. Такой туман, такая мгла стояли тогда, что вся поездка на пароме из Бриджпорта напоминала сон. Куда угодно способен завести один неверный шаг в подобный вечер: и постучишься в дверь к незнакомке, и окажешься с ней в одной постели. Даже такой, как Джон, может свернуть со своей дороги в такую даль, откуда уже не возвратиться назад. К своей настоящей жизни. Той жизни, которая ждала его — и распалась в пыль из-за единственного вечера, единственного неверного поворота, из-за рыжеволосой девушки, стоящей на крыльце.
Что, если б он все же совершил намеченное, стал все же молодым человеком, который едет учиться в Италию? Обнаружилось бы у него на этой стезе иное «я»? Любящий, теплый муж, хороший отец? Или ничто бы не изменилось? В конечном итоге, вероятно, какие бы ни представились ему возможности, он оставался бы таким, как есть. Джон жил так долго под бременем своих ошибок, что, отягощенный ими, почти забыл, как все могло бы у него сложиться при других обстоятельствах. Дети от первого брака разлетелись куда-то, словно птицы. Да и чем были для Джона Муди птицы? Кем-то, кто бьется о стеклянную крышу и пачкает окна; непрошеными созданиями, от которых не знаешь, чего ждать. В доме его не было фотографий первой жены, не было никаких свидетельств, что она вообще существовала, — а между тем он всякий раз видел ее, спускаясь в сумерках раннего утра на кухню. Видел по вечерам на газоне. Замечал, сидя в самолете, — то в облаках, то прямо рядом, на соседнем сиденье. Джон искренне не верил во все такое — всяческих духов, призраков. И тем не менее — вот она, Арлин Сингер, точь-в-точь такая, как при первой их встрече. Никогда ничего не говорит, лишь смотрит на него, не сводя глаз. Возможно, ей было что-то нужно от него, но что — он не знал. Всегда в том же тонком белом платье, сквозь которое все видно. Первое время он думал, что сходит с ума, — обращался к экстрасенсам, к психологам, но в конце концов признал тот факт, что его преследует призрак.
Не отпускала его Арли, никак не давала спокойно жить своей жизнью. Чего она добивалась? Чтоб он страдал? В конце концов, где он был, когда она испускала последний вздох? По соседству, у Синтии? Или прогуливался по травке на свежем воздухе? Или лежал, закрыв глаза, в своем кабинете и ждал, когда уснет? Больше он уже много лет такого не ждал. Он страшился сна, гнал его от себя, сон был пустым пространством, где тебя подхватит и несет куда-то помимо твоей воли. Когда Джон все-таки засыпал, его преследовало всегда одно и то же неотвязное сновиденье. Что он идет по Стеклянному Башмаку; кругом во всех комнатах темно. Он движется по стеклянному коридору и никак не может дойти до цели. Джон просыпался с ощущением потери, судорожно хватая ртом воздух. Еще два шага, и ему открылось бы что-то, однако в самую последнюю минуту он всякий раз терял верное направление.
В последние недели жизни Джон часто уставал, чувствовал боли в сердце, но не обращал на это внимания. Он не привык следить за своим здоровьем. Был постоянно занят — работой, семьей. Взялся учить свою дочь Лайзу водить машину — дочка у него всем удалась, но никуда не годилась как водитель. За две последние отпущенные ему недели Джон выезжал с нею тренироваться несколько раз, и как-то, на полпути к Гринвичу, его от напряжения так прихватило, что он попросил Лайзу остановиться. Вышел и встал, весь дрожа, на краю дороги. Совершенно не понимая, где находится. Замахал рукой, останавливая проезжающую машину, в уверенности, что они заехали бог весть куда.
По счастью, Лайза обладала прекрасным чувством ориентации. Ее вообще отличали трезвость ума и деловая хватка. Лайза вылезла из машины и повела отца назад.
Все в порядке, папа, сказала она. Я знаю, где мы. Мы в двух шагах от дома.
Джон сел на пассажирское место и положил ногу на ногу, охваченный слабостью, очень тихий — не потрудился даже сделать Лайзе втык, что едва не проскочила стоп-сигнал. Приехав домой, Лайза рассказала матери о странностях в поведении отца. Синтия хотела было звонить врачу, но Джон заявил, что чувствует себя прекрасно. Это было не так. Он вышел за раздвижную стеклянную дверь; в отдалении, у бассейна, возникла его первая жена — обнаженная, молочно-белая, какой стояла на кухне в тот вечер, когда они впервые встретились. И Джона опять потянуло к ней. Он пошел во двор. Сердце у него колотилось.
Синтия была хорошей женой, с этим ему повезло. Связь с нею он завел, движимый страхом — страхом перед болезнью Арлин, перед самою смертью, перед своими детьми. Честно говоря, на месте его соседки могла быть любая другая — он и к той постучался бы посреди ночи, ища утешения, просто тоскуя по человеческому общению. В этом смысле с его вторым браком все обстояло благополучно. Но вот теперь он чувствовал, что отдаляется куда-то. Ему нужна была Арлин. Он заметил, что на газон слетелась стайка траурных голубей.
А до того он подмечал следы копоти на кухонных стойках, сколы и трещины на фарфоровой посуде. С некоторых пор к нему явилось чувство, что нечто требует его внимания. Он поднялся к комнате Сэма, давно стоящей под замком, достал ключ и вошел внутрь. Присел на краешек кровати. Здесь тоже присутствовал прах, словно не вытравить было до конца отсюда Сэма: окурки, шприцы, нестиранное затхлое белье. Сэма больше не было — и все-таки кое в чем он оставался. Лежала в стенном шкафу сумка с его детскими вещами, купленными еще Арлин: комбинезончики, свитерочки. На стенах сохранились его рисунки…
Странность, связанная с опознанием его тела, была не в том, что Сэм всегда казался Джону чужим, — самое странное, что мертвым он словно бы возвратился к отцу. Он и внешне-то выглядел точно таким, как в раннем детстве, когда они еще жили на Двадцать третьей улице, — хорошим, серьезным мальчиком, на которого у Джона никогда не хватало времени. Арли обожала Сэма; Джон решительно не понимал, почему нужно любить его с таким исступлением. Он был ужасным отцом и, вероятно, не заслуживал права горевать; тем не менее, выйдя тогда из морга, сел на скамейку возле двери и заплакал. Он и не подозревал за собою способности издавать подобные звуки. Не знал, что может питать какие-либо чувства к своему сыну. Не был уверен, что его вообще как-либо тронет процедура опознания.