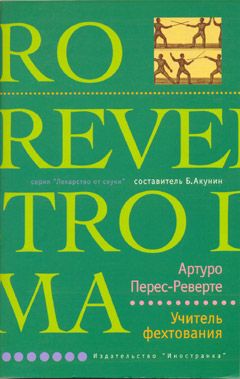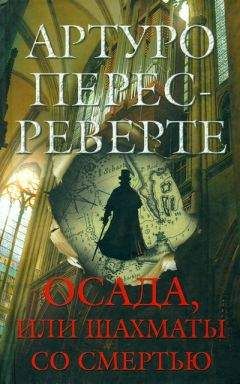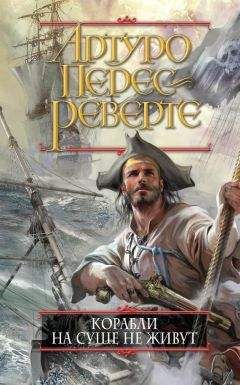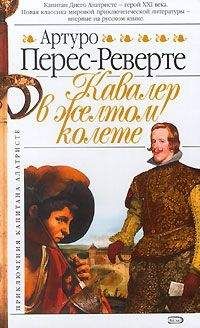Солнечные лучи падали почти отвесно; воздух над мостовой дрожал. По улице проехал водовоз, расхваливая свой прохладный товар. Торговка зеленью, сидевшая в тени возле корзин, полных фруктов и овощей, отмахивалась от мух, которые тучей вились вокруг. Дон Хайме снял шляпу, достал носовой платок и вытер со лба пот. Он вскользь полюбовался военным гербом, вышитым на старом шелке платка синими нитками, выцветшими от времени и многочисленных стирок, и, покорно подставив плечи безжалостному солнцу, продолжил свой путь вверх по улице. Тень съежилась у самых ног маленьким темным пятном.
«Прогресо» совсем не походило на кафе в обычном понимании этого слова. Несколько столиков из щербатого мрамора, столетние стулья, скрипящий под ногами деревянный пол, пыльные шторы, полумрак.
Фаусто, старик управляющий, дремал возле двери, ведущей в кухню, откуда доносился уютный запах кофе. Тощий облезлый кот с вороватым видом мелькал под столами, выслеживая мышь. Зимой в «Прогресо» пахло сыростью, на обоях проступали большие унылые пятна. Посетители кутались в пальто и теплые плащи, словно желая продемонстрировать свое молчаливое недовольство дряхлой железной печуркой, тускло красневшей в одном из углов помещения.
К лету все менялось. В центре раскаленного от зноя Мадрида кафе «Прогресо» становилось оазисом прохлады и тени; казалось, в его стенах за тяжелыми шторами чудом сохранился холод, накопившийся за зиму. И едва наступала пора летнего зноя, небольшая тертулия дона Хайме собиралась в кафе «Прогресо» каждый вечер.
— Вы, как обычно, искажаете мои слова, дон Лукас.
У произнесшего последнее Агапито Карселеса был вид священника-расстриги, коим он, впрочем, и являлся на самом деле. Споря, он поднимал указательный палец вверх, как будто призывал в свидетели само небо, — эту привычку он приобрел за то недолгое время, когда по необъяснимой халатности церковных властей, о чем епископ его епархии долго потом сожалел, его допустили на кафедру проповедовать благочестивым прихожанам. Обычно он перебивался с хлеба на воду, брал в долг у знакомых или под вымышленным именем писал пламенные речи в поддержку радикалов для выходившей ничтожным тиражом газетенки «Патриот-подпольщик», которую он бесплатно раздавал своим приятелям. Называя себя республиканцем и федералом, он громко декламировал трескучие антимонархические сонеты собственного сочинения, каждому встречному и поперечному объявлял, что Нарваэс — тиран, Эспартеро[13] — фарисей, а Серрано и Прим вызывают у него серьезные подозрения; совершенно некстати сыпал цитатами на латыни и по любому поводу ссылался на Руссо, не прочтя за свою жизнь ни одной его книги. Основным предметом его нападок были духовенство и монархия, а самыми прогрессивными вкладами в развитие человечества он считал изобретение печати и гильотины, о чем тоже неустанно твердил всем и каждому.
Дон Лукас Риосеко барабанил пальцами по столу, теряя остатки терпения. Он что-то бормотал, морщился и разглядывал пятна на потолке с таким видом, словно они могли дать ему силу и выдержку, чтобы спокойно дослушать бредни журналиста.
— О чем тут спорить? — заключил Карселес. — Руссо дал исчерпывающий ответ на вопрос, каким является человек по своей природе — добрым или злым. И его выводы, господа, просто великолепны. Великолепны, дон Лукас, так и знайте! Все люди добры, а посему свободны. Все люди свободны и посему равны. Отсюда вывод: все люди равны, ergo[14] равноправны. Вот так, господа! Свобода, равенство и национальное равноправие следуют, таким образом, из природной доброты человека. А все прочее, — он стукнул кулаком по столу, — вздор и ерунда.
— Но ведь есть и негодяи, дорогой друг, — вмешался дон Лукас с ехидством, словно ему удалось поймать Карселеса на его же собственную удочку.
Карселес улыбнулся холодно и презрительно.
— Разумеется. Кто же в этом усомнится? Например, Всадник из Лохи[15], ныне гниющий в аду; Гонсалес Браво и его шайка, кортесы… Но это всего лишь обычное недоразумение. Так вот: чтобы разобраться с такими господами, французская революция подарила миру гениальную штуку — острую бритву, которая движется вверх-вниз: раз — и готово, раз — и готово. И так уничтожаются все недоразумения, как обычные, так и необычные. Nox atra cava circumvolat umbra[16]. А свободному и равноправному народу — свет разума и прогресса.
Дон Лукас сдерживал себя с трудом. Он происходил из благородной, но обедневшей дворянской семьи, был тщеславен и в кругу друзей слыл мизантропом. Вдовец лет шестидесяти, детей он не имел; жизнь его сложилась не самым удачным образом: все знали, что со времен покойного Фердинанда VII[17] денег у него не водилось и жил он на скудную ренту да за счет доброты великодушных соседей. Однако в соблюдении благопристойности он был крайне щепетилен. Его немногочисленные костюмы всегда были тщательно отутюжены; а изящество, с каким он завязывал свой единственный галстук и вставлял в левый глаз черепаховый монокль, вызывало всеобщее восхищение. Он придерживался реакционных идей: считал себя монархистом, католиком и, главное, порядочным человеком. Словом, он был непримиримым противником Агапито Карселеса.
Помимо упомянутых участников, тертулию обычно посещали еще двое: Марселино Ромеро, учитель музыки в женской гимназии, и Антонио Карреньо, чиновник из Продовольственной компании. Ромеро был тихий, болезненный и печальный человек. Его надежды на карьеру музыканта остались в прошлом, и ныне он обучал пару десятков девиц из хорошего общества, как правильно стучать пальцами по клавишам. Карреньо был рыжий худой тип с ухоженной бородой медного цвета, молчаливый и угрюмый. Он считал себя масоном и заговорщиком, хотя не имел ни малейшего отношения ни к тем, ни к другим.
Закручивая желтоватые от никотина усы, дон Лукас бросил испепеляющий взгляд на Карселеса.
— До чего ж упорно вы, друг мой, пытаетесь извратить устои нашей нации, — начал он язвительно. — Вас никто об этом не просит, и тем не менее нам приходится выслушивать ваши разглагольствования, которые завтра наверняка будут опубликованы и превратятся в крикливое воззвание, которыми кишат ваши страницы… Так слушайте же, дружище Карселес: я заявляю вам свой протест. Я отказываюсь принимать ваши дутые аргументы. Вы только и знаете, что призывать всех к резне. Славный получился бы из вас министр внутренних дел!.. А вспомните-ка, что устроила ваша хваленая чернь в тридцать четвертом: восемьдесят монахов были убиты разгоряченным сбродом, подстрекаемым бесстыжими демагогами.
— Восемьдесят, вы сказали? — Карселес явно смаковал слова дона Лукаса, еще больше выводя его из себя. — По-моему, маловато. А уж я-то знаю, о чем говорю. Отлично знаю! Жизнь клира я изучил, представьте себе, изнутри; да еще как изучил!.. В этой стране с ее бурбонами и церковниками честному человеку делать нечего.
— Это вы о себе? Вам только дай волю, и вы пустите в дело ваши славные принципы…
— Принципы? Я знаю лишь один принцип: священник и бурбон — из Испании вон. Фаусто! Еще пять чашек, платит дон Лукас.
— Как бы не так! — Ощетинившийся старик откинулся на спинку стула, заложил большие пальцы в карманы жилета и яростно сжал в глазу монокль. — Даже когда у меня есть деньги — сегодня, к сожалению, не тот случай, — я плачу только за друзей. А угощать фанатичного предателя я не стал бы никогда!
— Уж лучше быть, как вы выражаетесь, фанатичным предателем, чем всю жизнь вопить: «Да здравствует монархия!»
Остальные участники тертулии поняли, что пора разрядить обстановку. Дон Хайме, помешивая ложечкой кофе, попросил соблюдать тишину. Марселино Ромеро, учитель музыки, покинул свои заоблачные дали и вмешался в спор, предлагая в качестве темы музыку, что, впрочем, не вызвало ни у кого ни малейшего энтузиазма.
— Вы отклоняетесь от темы, — объявил Карселес.
— Я не отклоняюсь, — возразил Ромеро, — музыка важна для общества. Она способствует равенству в сфере чувств, рушит границы, объединяет народы…
— Этому господину по душе только одна музыка: гимн Риего![18]
— Да будет вам, дон Лукас.
В этот миг коту померещилась мышь, и он заметался под ногами участников тертулии. Антонио Карреньо, обмакнув указательный палец в стакан с водой, принялся выводить на щербатом мраморе столика загадочные знаки.
— В Валенсии об одном, в Вальядолиде о другом. Ходят слухи, что в Кадисе Топете[19] принял эмиссаров, но пойди проверь, правда ли это. Глядишь, в самый неожиданный момент сюда возьмет и нагрянет Прим собственной персоной. Вот будет заваруха!
И с таинственным видом посвященного Карреньо пустился рассказывать об очередном заговоре, секретные сведения о котором сообщили ему некие тайные осведомители, чьи имена он, разумеется, предпочитает держать в тайне. Про заговор, о котором шла речь, как и про дюжину других подобных заговоров, знал весь Мадрид, однако Карреньо это нисколько не смущало. Шепотом, то и дело озираясь по сторонам, перемежая рассказ множеством недомолвок и намеков («Я доверяю вашей порядочности, господа»), он перечислял подробности своей захватывающей истории.