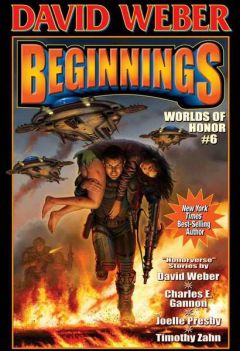Затем он бросился внутрь корабля. Стараясь не обращать внимания на трупы, он добрался до аптечки, хранившейся в полости под одним из сидений. Этот участок не был деформирован, и аптечка извлеклась с первого раза. Выскочив из отсека, он присел около Филлиса, распаковывая лекарства.
— Что случилось?
Филлис отвечал слабо, чуть дыша, хрипло.
— Я не сразу заметил, — сказал он. — Ты вышел из корабля, а я подбежал к Деггету, нагнулся, и мне стало плохо. Меня тоже задело при падении. Спаси меня, Фернан, спаси, прошу тебя… — он задыхался.
— Держись, брат, — шептал Борхес, вырезая дыру в комбинезоне раненого.
Под комбинезоном обнаружилась широкая рваная рана с засевшим в ней куском металла стрелообразной формы. Судя по всему, кусок внутренней обшивки от удара «выстрелил» прямо в сидящего Филлиса. Тот потерял сознание, а когда очнулся, был в шоке и не сразу почувствовал боль; своим рывком к Деггету, заведомо мёртвому, Филлис усугубил рану.
— Держись!
Непослушными руками испанец извлекал из раны кусок металла, засыпал ранение антисептиком, замазывал заживляющими веществами, перебинтовывал. Филлис стонал; Борхес вливал в него лечебный настой из аптечки и бинтовал, бинтовал, зажимал…
* * *
Филлис умер через четырнадцать часов после посадки. Он приходил в сознание всего дважды. Один раз — на несколько минут, в течение которых был в здравом уме.
— Фернан, я умру? — спросил он.
— Нет, не волнуйся, я остановил кровь, всё нормально, ты не умрёшь, — утешал его испанец.
— Умру, Фернан, — отвечал Филлис и кашлял кровью. — Я знаю, повреждено лёгкое… знаю.
Борхес не знал, что сказать.
— Фернан, если ты выберешься, передай жене, что я любил всегда только её, — с трудом проговорил Филлис. — Я изменял ей, она знает, я спал с медсёстрами, стюардессами, секретаршами. А любил только её, и никого кроме неё, я готов был умереть ради неё, отдать всё что угодно.
— Ты умираешь ради неё, — вдруг сказал Борхес.
— Да, — согласился Филлис, — я умираю ради неё. Спасибо, испанец.
Он впал в забытье.
Во второй раз Филлис открыл глаза перед самой смертью.
— Фернан, — сказал он тихо-тихо.
Борхес наклонился к умирающему.
— Прощай, Фернан, — сказал Филлис.
И закрыл глаза.
* * *
Борхес похоронил всех троих неподалёку от корабля. Слава Богу, в инвентаре нашлась лопата — кто знает, для чего её туда положили. Для этого ли?
Лес был гостеприимен. Он дал Борхесу ягоды и какие-то странные плоды, похожие на манго; Борхес подсмотрел, что ими питаются мелкие белкоподобные зверьки. Они совсем не боялись человека, лезли в руки на приманку из фруктов, и Борхес сумел убить двоих просто лопатой, обеспечив себя мясом. Он не знал, что ждёт его в будущем. Ещё три дня будет работать радиомаяк на случай прибытия помощи, а потом отключится. И Борхес был готов уйти в никуда, стать Робинзоном на чужой планете.
Впрочем, он был уверен, что в течение ближайших трёх-четырёх лет будет ещё немало экспедиций; вполне вероятно, начнётся даже колонизация этой планеты, и он снова увидит людей, поэтому страха перед одиночеством испанец не испытывал. Несколько лет он продержится.
Мария вряд ли его дождётся. Скорее всего, она выйдет замуж, позабудет его и будет счастлива.
«Фернан, — сказала она, — я с тобой. Но даже если я покину тебя, с тобой всегда останется твой Бог».
И Борхес теребил в руках крошечный крестик и смотрел на чужое небо, надеясь увидеть там то ли Бога, то ли Марию, то ли спасательный корабль.
* * *
Они прибыли через два дня. Радиомаяк уже начинал затихать, но сигнал успели поймать. Корабль был больше корабля Борхеса, много больше. Он имел не только тормозные и маневренные, но и стартовые двигатели, при необходимости мог взлететь с планеты самостоятельно.
Фернан в последний раз обернулся на искорёженный челнок. Его уже ждали в корабле. «Тела, — сказали они, — мы сейчас забрать не сможем, у нас только один пассажирский салон, и совсем небольшой. Живых бы взяли, а тела — подождут». Они были правы. Деггет, Малкин и Филлис погибли героями, думал Борхес, но им надлежит покоиться не в мавзолее славы где-нибудь в центре Нью-Йорка, где любопытные дети будут спрашивать мам, кто лежит под слоем мрамора. Самой лучшей могилой для них стала эта тёплая, приветливая земля, земля чужого мира, который пытался их принять — но их не отпустила родная планета.
И ещё Борхес думал о маленьком серебряном крестике. Не он был причиной сбоя, виноват был центр, и уже после первого неудачного круга стали срочно готовить второй звездолёт к спасательной операции.
Борхес оставил крестик там, закопав его в землю у изголовья космонавтов. Он оставил на Этрее кусочек Бога, который — он верил — спас его, как не спасла Филлиса любовь жены, Деггета — значок с американской символикой, который он всё же пронёс на корабль, только не хотел в этом признаваться. Как не спасла Малкина его жизнерадостность и энергия.
Первым делом по прибытии на Землю Борхес хотел пойти в костёл и поставить три свечи.
И сказать «спасибо».
А потом — поцеловать Марию.
«Ты вернёшься, я знаю».
«Вернусь».
«Ты вернёшься героем».
«Да».
Рассказ написан для конкурса РБЖ «Азимут». Тема — «Время», занял 3-е место. Рассказ опубликован в антологии «Хирургическое вмешательство», Москва, Независимая литературная премия «Дебют», Гуманитарный фонд Андрея Скоча «Поколение», 2009, и в альманахе «Реальность фантастики», № 8–9'2008.
1.
Трава.
Она зелёная. Свежая, светлая. Капелька: кап-кап, кап-кап. Каждая травинка прекрасна, и прекрасен этот бесконечный зелёный покров.
Я лежу на земле, вжимая щёку в густую бархатную мякоть, трава щекочет кожу, трава набивается в ухо, и мне хорошо. Я ловлю губами травинку, перекусываю её, жую. Она невкусная, но… Неважно. Трава, деревья, листья, Солнце — это жизнь. Уолт Уитмен[2] — гений. Гений.
— Джерри!
Крик прерывает моё единение с природой. Это Харпер.
Он бежит ко мне, сминая своими грязными замасленными ботинками траву, мою любимую, зелёную траву. От него воняет потом и бензином, он тянет ко мне руки, но я отстраняюсь.
Он мастерит Машину Времени. Уже год этот чёртов мальчишка мастерит Машину Времени. Каждые две недели он врывается в мой кабинет, или в мою спальню, или просто находит меня, где бы я ни был, и ревёт во всё горло: «Заработало! Беги смотреть! Оно заработало!» И я, как последний идиот, иду смотреть на скособоченную конструкцию из консервных банок, проволоки, старых будильников, порванных пружинных матрацев, верёвок и прочего мусора. Она вращается, шевелится, скрипит, как паровоз сорокалетней давности, откуда-то бьют струи горячего воздуха, в топке что-то нестерпимо воняет, а Харпер носится вокруг и дёргает какие-то рычаги, кричит, бесится, то смеётся, то рыдает, потому что ни черта у него не получается.
Я отрываю голову от земли.
— Джерри! — вопит Харпер — Оно работает! Я только что отправил мышь в будущее!
Я лениво поднимаюсь.
По словам Харпера, в будущем побывали не только мыши, но ещё змеи, тушканчики, его носовой платок и панталоны Матильды Вестернглайд. Он в неё влюблён уже второй год. И зачем-то уговорил её брата спереть у неё панталоны. Интересно, сколько тот содрал с Харпера?
Харпер скачет вокруг.
— Быстрее, Джерри, через три минуты появится мышь!
Я молча иду за ним. Он приплясывает, требует, чтобы я шёл быстрее, заглядывает мне в глаза. Я всем своим видом показываю, что мне совершенно неинтересна его Машина, что я иду только для того, чтобы избавиться от него.
Этот мерзкий сарай построен прямо рядом с моим садом. Ему уже сто лет, а сад я разбил лишь два года тому назад. Всё равно это не сад рядом с сараем, а сарай рядом с садом. Он портит всё. Но снести его нельзя. Потому что Там-Харпер-Мастерит-Машину-Времени-Умничка-Наш! И кажется, женщина, мать, ей бы радоваться старшему сыну, радоваться цветам и зелени, а она смотрит на Харперовские железяки и сюсюкает.
В моём саду три дорожки. В планах — четвёртая. Вдоль каждой — мои любимые левкои, орхидеи, астры, розы — всё переплетается, при этом безупречно гармонируя между собой. Искусственный водопадик, маленький, успокаивающий. Старая рама от велосипеда, обросшая плющом и ставшая каркасом для живой изгороди. Тишина, умиротворение.
И постоянный грохот из мастерской Харпера. Я заставил его сделать вывод на крышу, чтобы вонючие газы не портили сад. Но они ведь всё равно портят! Они оседают чёрным смогом на влажных листьях, они… да что говорить. Ненавижу этого маленького засранца.
— Сюда, сюда, Джерри!
Я вхожу в мастерскую. По-моему, ничего не изменилось. Та же страшная конструкция в половину помещения. Та же вонь.