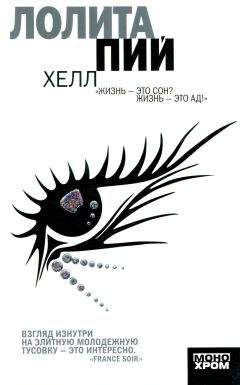— У нас тут ланчем не кормят.
Начинает агрессивно и в придачу не по делу, ведь меня не только тошнит от одной мысли о твердой пище, но я и словом не обмолвился о еде и не могу понять, что на него нашло, еще один псих.
— Тем лучше. Будьте добры, принесите или попросите принести карту напитков, любезнейший.
Он подзывает подчиненную столь повелительным жестом, что я бы на ее месте прискакал галопом, в бистро пусто, как в моей голове в этот момент, и я спрашиваю себя, не снится ли мне вся эта сцена. И в ту же минуту сознаю, что подавальщице, которую я клеил, далеко за семьдесят, но она еще стройная и сильно накрашена, так что в полутьме, да после вчерашнего, скинул ей добрых лет тридцать, но теперь наконец правда вышла наружу, и поскольку эта правда, с сугубо биологической точки зрения, годится мне в матери, если не в бабушки, я прекращаю всякие попытки отбить ее у здешнего хозяина и хочу предстать перед ним в выгодном свете: в конце концов, по зрелом размышлении, его ревность вполне законна и объясняется, похоже, священными узами брака. Потом в дверях возникает голова какого-то типа, мокрого как мышь, и тип спрашивает:
— Простите, у вас ланчем кормят?
— Нет! — отвечают хором и мужчина и женщина с такой усталостью в голосе, что мне даже любопытно.
Тут мужчина решает-таки мной заняться, подходит к столику и швыряет карту напитков почти мне в лицо, я в восторге.
— Рюмку коньяку и горячего шоколаду, пожалуйста, — говорю я, — и если на то пошло, раз уж вы настроены столь явно агрессивно по отношению ко мне, к чему я, между прочим, не подавал никакого повода, я бы предпочел, чтобы вы по крайней мере добавили к вашему жесту словесное сопровождение и, швыряя карту напитков практически мне в лицо, словно пощечину, довели до конца вашу выходку и наградили меня одновременно каким-либо неблагозвучным эпитетом, как, например, болван, тварь или скотина, тогда она приобрела бы законченность, ибо, представьте себе, меня ничто так не раздражает, как полумеры.
— Если собираетесь новых дружков себе завести, так лучше выметайтесь, ошиблись адресом.
— Месье хочет проблем? — с угрозой вопрошает благоверная этого пугала, и я чуть не плачу, ибо вся моя доброжелательность по отношению к ним совершенно не пользуется взаимностью.
— Простите, пожалуйста… у вас еще кормят ланчем?
Еще один человек, точь-в-точь похожий на предыдущего, приоткрывает дверь и задает сакраментальный вопрос.
— НЕТ! — рявкают оба так синхронно, что мне даже завидно.
— А вы что, так посидите или будете настаивать?
Тон повышается.
— Пожалуй, я буду настаивать.
— Лаллаби, рюмку коньяку и горячего шоколаду для неприятного господина.
— Коньяка не осталось.
— То есть как не осталось коньяка?
— Альбер, ты только что последний допил!
— А меня зовут Дерек, и бог с ним, с коньяком, сойдет и бурбон.
— Слышала, Лаллаби?
— И один бурбон! — орет она в пространство, к некоторому моему беспокойству, потому что за стойкой, я уверен, кроме нее, никого нет.
— Спасибо, Альбер, — говорю я.
Он тут же разворачивается на сто восемьдесят градусов и мерит меня взглядом с головы до ног, его трясет.
— Откуда вы знаете, как меня зовут?
— Вы что, издеваетесь?
— Я не позволю разговаривать со мной в таком тоне, — произносит он, вне себя, и тут же заходится истерическим смехом.
— Сударь, вы недооцениваете моего расположения к вам, поймите, вы упоительным образом напоминаете мне персонажа, который постоянно встречается в творчестве одного великого немецкого писателя, высланного в Соединенные Штаты и скончавшегося в 1994 году, и по этой причине я питаю к вам совершенно искренний интерес, пусть даже вам он кажется нескромным.
— Вот вам ваш бурбон!
Лаллаби ставит его на стол с такой силой, что приятно посмотреть.
— Ваше здоровье, — говорю я, залпом опрокидывая стакан. — Не предлагаю вам пропустить со мной стаканчик, вы только что уже вылакали весь коньяк.
— Месье прав, Альбер, ты слишком много выпил, пора тебе остановиться, а то смотри у меня…
— Умолкни, Лаллаби, мы с месье сами разберемся.
Он угрожающе нависает надо мной, руки в боки, голос суровый, глаза сощурены, и могу поклясться — меня это, впрочем, пугает, все ли у меня в порядке со зрительным нервом или с психикой, а может, и с тем и с другим (если учесть, сколько я вливаю в себя последние годы, я в любом случае полутруп), — он стал выше ростом.
Он хватает меня за шиворот, мимоходом разорив сложную вязаную конструкцию кашемира, которым я, сказать по правде, не слишком дорожу с тех пор, как узнал, что выбирала его не сама Жюли, а ее шофер, посланный в последнюю минуту в «Бергдорф» накануне моего двадцатипятилетия, и меня посещает горькая мысль о Жюли и ее эгоцентризме, а сжатый кулак Альбера тем временем зависает над моей головой, готовый обрушиться на нее в кратчайшие сроки — через долю секунды или через несколько минут, если удастся поторговаться.
— Вы не в моем вкусе, — рычит он.
— Вы тоже, — безнадежно отзываюсь я, по-моему, Альбер слишком самонадеян, — мой к вам интерес… литературного порядка.
— Литературного?
Пальцы его разжимаются, и я вижу, что он в смятении — не поймет, что ли, какое отношение имеет литература, как-никак искусство, к человеку, с виду довольно-таки далекому от эстетических запросов? Во всяком случае, мой богатый бойцовский опыт подсказывает, что он колеблется, это обнадеживает.
— У вас еще кормят ланчем?
Это вторгается третий придурок, — я уже знаю, что не схлопочу по морде, — и мы, все трое, в бешенстве оттого, что нам помешали, разворачиваемся и кричим в один голос:
— НЕТ!
Спустя несколько минут Альбер, как положено, сидит напротив меня, а Лаллаби, в свой черед, чувствует себя лишней.
— Когда люди слишком избалованы жизнью, у них не бывает друзей…
Говорю, естественно, я.
— Человеку могут простить многое, кроме одного: если ему дано все, о чем другие могут только мечтать.
— Надо же, а я-то думал, ты ко мне пристаешь.
— Видишь ли, Альбер, слишком много всего всё убивает, понимаешь?
— Наговорил тут всякого про нескромный интерес, любой бы на моем месте тебя так понял.
— Большинство смертных сводят счастье к трем-четырем понятиям — то есть к здоровью, красоте, богатству, успеху и т. д.
— Еще немножко виски?
— А ведь можно прекраснейшим образом быть уродом, бедняком, неудачником, и при этом быть счастливым, пока этого не сознаешь, и заметь, «пока этого не сознаешь» я произношу курсивом.
— Чего?
— Одиночество, Альбер, одиночество и скука, и сознание одиночества и скуки.
— Ах, одиночество! Одии-ноо-чест-вооо у меня в штанах сидит!
— Все остальное — только способ отвлечься!
— Ладно, кончай вилять, малыш, ты чего мне сказать-то хочешь?
— Я несчастлив.
— Нет, это невозможно! Почему! Почему!
— Возможно, — говорю я и только потом соображаю, что он обращается к пустой бутылке.
— Но кто дал мне право жаловаться?
— Подожди, малыш, повтори-ка!
Он подносит ладонь к правому уху, наклоняет голову, будто не расслышал, потом трижды кивает в пустоту, и я точно знаю: ему чудятся голоса.
— Эй, малыш, повтори-ка, я тут недослышал.
— Кто дал мне право жаловаться? — ору я, сложив руки рупором.
— Все ясно, — произносит он, потом выражение лица у него абсолютно меняется, он опять становится самим собой, и на сей раз я точно знаю: у него что-то вроде раздвоения личности. — Ты сухарь.
— Не понял?
— Ты самый настоящий сухарь. А теперь кончай хныкать.
Я несколько ошарашен этим наездом, но потом до меня доходит: Альбер, с его проницательностью, чуткостью к оттенкам, исключительно глубоким знанием тончайших человеческих чувств, наверняка понял, что сколько-нибудь длительные отношения между нами невозможны по одной простой причине — мы слишком разные; разный возраст, разные поколения, разные интересы, разная среда, разное семейное положение (Альбер тридцать лет как женат, в придачу супруги владеют общим имуществом, а я один, и это надолго). А значит, любая мутная дружба, возникающая вокруг бутылки, должна вместе с бутылкой и кончаться. Дело шло к вечеру, и я, испытывая почти болезненное желание соединить свою судьбу с судьбой Лаллаби и Альбера, такой предсказуемой, надежной, коллективной, все-таки машинально встал, накинул плащ, распрощался — к счастью, в кармане нашлось несколько купюр, не бог весть что, но хоть не стыдно дать на чай, — и вышел из бара; и могу поклясться — правда, мозги и чувства у меня расстроены, видимо, сильнее, чем я думал, — что слышал крик «Снято!» и аплодисменты, меня это несколько встревожило, но я решил не обращать внимания и вернулся в отель еще более одурелым и одиноким, чем уходил.