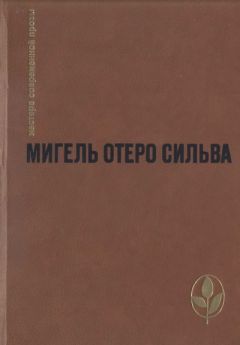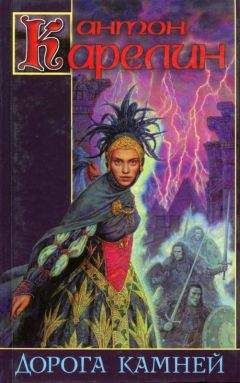Ознакомительная версия.
– Летайте самолетом, – буркнул мужчина, как раз допив пиво.
– Летайте сами, если денег куры у вас не клюют. Что ж сами-то здесь? – нашла противника женщина из Омска. – Легко сидеть говорить!
– Так я и ничего. Пускай на здоровье бастуют. – Мужчина достал из пакета новую бутылку. – Довели людей, а теперь удивляются…
Женщина взвизгнула:
– Кто довел! Я довела?!
– Горбачев дал всем волю, – сказала старушка. – Раньше-то и в мысль не пришло б выйти, а при ём все можно стало: и воровать без огляду, и бастовать вон сколь влезет.
Мужчина усмехнулся:
– При Горбачеве-то из-за другого бастовали. Тогда требовали, чтоб платили побольше, а теперь – чтоб хоть отдали наработанное. Вот и лезут на рельсы, что жрать нечего.
– Мда-к, – недовольно крякнула старушка и уставилась в окно, за которым, наверное, надолго замерли черные, с сальными подтеками цистерны.
Появились в конце концов утешительные вести: шахтеры решили пассажирские пропускать. Значит, сейчас мы продолжим путь.
Вагон заполнился вернувшимися с улицы людьми, затем проводник долго выяснял, все ли на месте. Лейтенант провел поверку своих бойцов.
Тронулись. Проплыла мимо и осталась позади станция Тайга. Начались поля и рощицы, картофельные делянки под насыпью. Я взялся за книгу. Вагон мягко покачивался, однообразный перестук убаюкивал.
Обитатели вагона занялись обычными в дороге делами: одни раскладывали на столах еду, другие играли в картишки, третьи перебирали вещи, четвертые лежали, читали, дремали. О недавних нервных минутах, о вышедших на рельсы шахтерах никто не вспоминал: проехали относительно благополучно, повезло нам – и ладно.
1998 г.
За все, как говорится, надо платить. Я вот напился у Андрюхи и пошел. Несколько раз падал. Около магазина «Кедр» меня взяли.
– Стой-ка! – принял в объятия пэпээсник с дубинкой.
Потом, помню, куда-то я побежал, а они за мной. Возле сберкассы упал. Помню, меня обыскивали. Нашли темно-зеленый камушек в кармане.
– План! – обрадовался кто-то.
– Не, камень, какой-то.
Сунули его обратно.
Потом, помню, стал я буянить. Вырывался. Но ничего, вроде не били.
Потом, помню, в уазике ихнем сидел. Окошечко в двери с решеткой. Город за решеткой, люди спокойно ходят. А я сижу, смотрю. Пьяный.
Потом ввели в помещение. Вот так вот направо – клетка большая, в ней битком людей. Налево – лестница вниз, а прямо так – стол; за столом милиционер с большим значком на груди и женщина в белом халате. Кого-то допрашивают.
Подхожу к столу.
– Зачем меня задержали?
Меня подхватывает какой-то милиционер, перетаскивает на диван.
– Посиди тут пока.
Сижу, потом, помню, встал.
– Не имеете права задерживать! Я поэт. Я пишу поэмы!
Меня толкнули на диван:
– Сиди давай.
Сижу. Пить захотелось.
– Дайте воды!
Подводят к столу.
– Фамилия, имя, отчество?
– Сенчин Роман Валерьевич. Поэт.
Женщина тоскливо:
– Зачем так напился?
– Надо.
Снова, помню, оказался на диване. Сижу. Кого-то другого допрашивают. Пить хочется.
– Дайте воды!
Не дают.
Встаю, застегиваю пальто и пытаюсь уйти.
Бухают на диван.
– Сиди спокойно.
– Убейте меня.
– Зачем?
– Вы ведь любите убивать.
– Сиди спокойно.
Сижу, сижу. Пить очень хочется. Все кружится. Весело.
Начинаю петь:
Мама хочет, чтоб я был!
Папа хочет, чтоб я знал!
Я прожил почти сто лет!
Я сто лет на все срал!
Из клетки бурно одобряют.
Вскакиваю и ору:
Не хочу, чтобы я был!
Не хочу, чтобы я знал!
Не хочу-у!..
Меня волокут вниз. Визжу, пытаюсь вырваться. Нет.
Какая-то, помню, маленькая комнатка.
Милиционер:
– Раздевайся давай.
– Что?
– Раздевайся, говорю.
– Аха! – Сую ему под нос фигу.
Удар коленом ниже живота. Приседаю и успокаиваюсь.
И сразу, помню, голый, с одеялом в руке. Ногам холодно, липко. По коридору. Слева и справа отсеки. Вся лицевая сторона и дверь из сетки. Видел такое в фильмах. Везде люди. Много. Облепили сетку, что-то орут, смеются.
Вот уже в одном из отсеков. Полно людей. Деревянный настил, чтоб лежать.
Мне сразу ничего не говорят. Все страшные, в одеялах. Одеяла такие грязные, что страшно.
Провал.
Помню, тихо, тусклый дежурный свет. Сижу на краю настила. Рядом мужик с рыжей бородой.
– …А меня жена сдала. Сама, гада. Ну, пришел домой веселый… Утром прибежит выкупать.
А пить хочется.
– Здесь вода есть? – оглядываюсь.
Рыжий смеется. В углу грязный сухой писсуар.
Встаю. Колочу в сетку, ору:
– Дайте воды! Во-ды! Во-ды!
Ору, помню, долго. В соседней камере зашумели. И в нашей.
– Во-ды! Во-ды! – это я ору.
И другие что-то выкрикивают, сетку трясут.
Подходит, который меня раздевал.
П-ш-ш-ш. Падаю. Прямо в глаза!
– У-у-у-у-а-а!!
Повалялся, проморгался. Вскакиваю. Они все смотрят на меня спокойно.
– Что же вы?! Надо восстать!
Никто не хочет. Опять тихо. Сижу. Рыжий что-то мне объясняет. Потом падает и засыпает. Сижу.
Тихо, тоскливо. Все спят, многие безобразно храпят. Постепенно трезвею, но думать не могу. Просто жду.
– Дежурный, а-а! – вульгарный женский голосок слева.
Оказывается, и женщины есть.
– Дежурный, а-а!
Кто-то смеется, я улыбаюсь.
– Эй, дежурный! – уже другой, грубый и живой. Тоже женский.
– Что, девчата, хотите? – кто-то спросил.
– Хотим! – ответил грубый голос.
– Эх, да не сидел бы я в темнице!..
Смеется кто-то.
– Дежурный, а-а!
Смех.
– Да дежурный, твою мать!! – истошный крик грэбой. – Скорее сюда!
– Дежурный, а-а!!
Появляется дежурный, который мне прыснул. Проходит. Какие-то разговоры там, ахи.
Дежурный быстро уходит обратно.
– А-а-а!!! – уже не тоненько и вульгарно, а душераздирающе.
Бодрствующие мужчины озабочены:
– Что там? Кого зарезали?
Ничего не понятно. Кутаюсь в одеяло.
– А-а-а!!!
Потом женщина-врач с железным портфельчиком. Дежурный. Та женщина из-за стола.
Вновь разговоры.
Потом отчетливо:
– Одевайся, пошли.
– Не могу я! А-а…
– Что я тебя на руках, сучку, понесу?
Женские голоса.
Потом обратно женщина-врач и женщина из-за стола. Через несколько минут – какая-то вся маленькая, в клетчатом пальтишке. Идет медленно, хватается за решетку. Сзади дежурный.
Потом тихо опять, спокойно.
– А что с ней? – трезвый вроде мужской голос.
– Выкинула, – голос грэбой. – С пятого месяца.
– У-у.
Смотрю на сокамерников. Спят лежат. А мне места нет. Упасть, зарыться в эту массу тел и одеял боюсь. А сейчас уснуть бы… потом проснуться.
Идет мимо дежурный.
– Гражданин дежурный! – я ему. – Дайте водички, все подпишу.
Он даже остановился, посмотрел. Усмехнулся, пошел дальше.
А время идет. Медленно так идет. Еще, наверное, вечер. Приводят новых. Этих даже не раздевают. Суют по камерам. В нашу не суют – некуда.
Справа, где лестница, возникают звуки борьбы. Сипят, возятся. Потом тихо.
Потом:
– А-а-а! – и поток нецензурных ругательств. Это мужской голос.
Потом:
– А-а! Суки драные, волки́ позорные!..
Вроде заткнули рот. Мычание.
Парень в камере напротив, которого недавно привели, выворачивает глаза в сторону лестницы. Жадно смотрит.
– Что там? – спрашиваю.
– На стул Леху посадили, с-суки!
Этот, напротив, в белом грязном свитере, порванных джинсах. Долго сидит у решетки, потом ложится на настил и затихает.
Проводят кого-то, все лицо в крови. Еще кого-то.
Потом дежурный кричит:
– Мишаков!
– Здесь, здесь!
Забирают наверх Мишакова.
Потом опять тихо. Начинаю дремать.
Появилась уборщица. Протирает пол.
Прошу:
– Тетенька, дайте водички, а!
Водит шваброй туда-сюда. Не реагирует.
– Дайте, а? Глоток.
– Не положено.
Медленно проплывает мимо.
Больше не дремлется.
Время идет. Когда же утро? Башка раскалывается. Язык одеревенел, во рту все горит. Сижу, качаюсь, как индус, кутаюсь в одеяло.
Долго, очень долго ничего не случается. Люди отдыхают. Храпят, сопят, свистят, мычат.
Встаю. Стараюсь посмотреть, что там делается слева, справа.
Ничего интересного. Ничего не видно.
Рассматриваю стены камеры. Надписи всякие: «Здесь был Василий У.», «Балтон. 2.2.92.», «Трезвяк это рай».
Ногтем старательно выцарапываю: «Сен. 14.03.94. Понравилось».
Еще примерно часа через два начинается некоторое оживление. Выкрикивают фамилии, людей уводят.
– Выпускать начали, – бормочет рыжий мужик, мой сосед. Он сидит, трет лицо, шею, грудь.
Все очень быстро просыпаются. Встают, садятся, шумят.
– Ельшов!
– Здесь я!
Из нашей камеры уводят Ельшова.
Многие возвращаются. Они одеты. Их помещают куда-то дальше, влево.
Опять уборщица с ведром и шваброй. Мечется по коридору.
Ознакомительная версия.