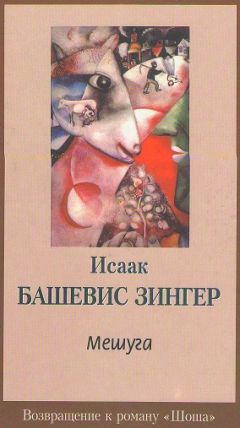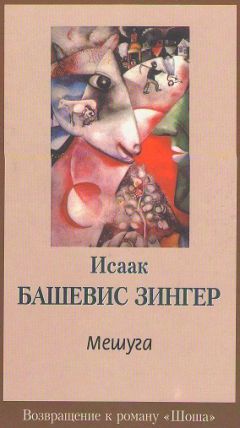Казначеем в доме была Дора. Я всегда давал ей больше, чем требовалось, так как получал денежную помощь сразу от нескольких организаций, а потом еще и от моих американских родственников. Вскоре выяснилось, что у нее образовались тайные накопления. Ее сестра, очевидно, об этом знала и тоже имела свою долю. Я часто слышал, как они шепотом ссорятся из-за денег.
Да, я забыл сказать вам о самом главном: о детях. Обе сестры хотели иметь от меня ребенка, и часто скандалы возникали именно из-за этого. Но я в этом вопросе был совершенно непреклонен. Мы фактически жили на подаяние. У меня был один ответ: «Зачем? Чтобы новому Гитлеру было кого сжигать?» Я так и не завел детей. Что касается меня, предпочитаю положить конец трагедии человеческого рода. А что касается Итты и Доры, скорее всего, ни та, ни другая просто не способны к деторождению. Такие женщины вроде мулов. Как у хасида могли вырасти такие дочери, выше моего понимания! Наверное, в наших генах все еще живет память о временах Чингисхана или черт знает кого еще!
Беда, которую мы ждали и которой так боялись, подкралась незаметно. Наши споры постепенно заглохли, уступив место унынию. Все началось с болезни Доры. Что это было, я так и не понял. Она стала худеть, и у нее появился сильный кашель. Я испугался, что это туберкулез, и отвел ее к врачу, но тот не нашел у нее ничего серьезного. Он прописал витамины, которые совершенно не помогали. Дора потеряла всякий интерес к сексу и не хотела больше участвовать в наших ночных забавах и праздных разговорах ни о чем. Она даже раздобыла где-то раскладушку и поставила ее на кухне. Без Доры Итта тоже вскоре остыла к нашей любви втроем. Вообще-то говоря, от нее инициатива никогда и не исходила, она только делала то, что велела Дора. Итта любила поесть и поспать. Во сне она громко храпела и причмокивала. В общем вышло так, что вместо двух женщин у меня не осталось ни одной. Мы молчали не только ночью, но и днем. Мы впали в уныние. Прежде меня утомляла эта никогда не прекращавшаяся болтовня, эти бесконечные пререкания и нелепые похвалы, которыми они меня осыпали, но теперь… знаете, теперь я тосковал по тем временам. Мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили положить конец отчуждению, возникшему между нами, но одними решениями такое не поправишь. Мне казалось, что в нашем доме завелось какое-то невидимое существо, привидение, наложившее печать на наши уста и бремя — на наши души. Каждый раз, когда я хотел что-то сказать, слова застревали у меня в горле А если все-таки удавалось что-нибудь из себя выдавить, это всегда было нечто такое, что не нуждалось в ответе. На моих глазах две отъявленные болтушки превратились в настоящих молчальниц. Они вообще не открывали рта. Я тоже сделался молчуном. Прежде я мог, не особенно задумываясь, часами разглагольствовать о чем угодно, но с некоторых пор стал взвешивать буквально каждое слово, постоянно опасаясь вызвать неудовольствие. Знаете, когда я раньше читал ваши рассказы о дибуках, я только смеялся, но теперь почувствовал, что сам сделался одержимым. Я открывал рот, чтобы сделать Доре комплимент, а выходило оскорбление. Вдобавок на всех нас напала какая-то болезненная зевота. Мы целыми днями сидели и зевали, глядя друг на друга мутным взором, — действующие лица трагедии, которую не могли ни постичь, ни изменить.
К тому же я стал импотентом. Мне уже была не нужна ни та, ни другая. Лежа в постели, вместо желания я испытывал только то, что можно назвать полным отсутствием всякого желания. Часто возникало малоприятное чувство, будто у меня ледяная кожа, меня знобило. Хотя сестры и не заговаривали о моей импотенции, я чувствовал, что они по ночам внимательно прислушиваются к таинственным процессам, происходящим в моем организме: к замедлению тока крови, к какому-то общему угасанию и усыханию всего и вся. А с некоторых пор в темноте мне стало мерещиться некое существо, как будто бы сотканное из паутины. Это было нечто высокое, тощее, с длинными патлами, какой-то бесплотный скелет с дырками вместо глаз и черным провалом рта, искривившимся в беззвучном хохоте. Я старался убедить себя, что это просто нервы. Да и что еще это могло быть? В привидения я не верил и теперь не верю. Просто в какой-то момент я на собственном опыте убедился, что наши мысли и чувства могут материализоваться и превращаться в почти осязаемые сущности. Знаете, у меня до сих пор мороз по коже, когда я об этом вспоминаю. Я никому еще этого не рассказывал — вам первому и, уверяю вас, последнему.
Это произошло ночью 1948 года, весной. В эту пору в Париже по ночам бывает жутко холодно. Мы погасили свет и легли — я на раскладушке, Дора на диване, Итта на кровати. Такой холодной ночи я не припомню, в лагерях и то, кажется, было теплее. Мы укрылись всем, чем только можно: пледами, покрывалами, но ничего не помогало. Я обмотал ноги свитером и положил сверху зимнее пальто. Итта и Дора тоже соорудили себе какие-то гнезда из одеял. Все это мы проделывали, не произнося ни единого словами эта гнетущая тишина сообщала нашим действиям привкус такой отчаянной безысходности, что просто невозможно передать. Я совершенно отчетливо помню, как, лежа в постели, вдруг почувствовал, что наказание придет именно этой ночью, и молился, чтобы оно миновало. Меня трясло от холода — и дело было, конечно, не только в заморозках, но прежде всего в состоянии моих нервов. Глазами я искал в темноте «тень» — так я прозвал это бесплотное чудовище из паутины, — но разглядеть никого не мог. В то же время я знал, что оно где-то здесь — либо в углу, либо даже за спинкой кровати. «Не будь идиотом! Привидений не бывает, — мысленно убеждал я себя. — Если Гитлер уничтожил шесть миллионов евреев, а Америка после этого посылает миллиарды долларов на восстановление Германии, в мире нет никаких других сил, кроме материальных. Привидения не допустили бы такой несправедливости…»
Мне захотелось помочиться, а уборная была в коридоре. Обычно, если нужно, я могу и потерпеть, но тут позыв был слишком настоятельным. Я встал с раскладушки и поплелся к двери. Не успел я сделать и несколько шагов, как кто-то преградил мне дорогу. Дорогой мой, мне известны все возражения, вся эта психологическая дребедень, — но то, что тогда встало у меня на пути, не было просто галлюцинацией. Я слишком испугался, чтобы закричать. Да и вообще — кричать не в моих правилах. Я думаю, я бы не закричал, даже если бы он стал меня душить. Да и что толку? Кто бы мог мне помочь? Две полубезумные сестрицы? Я попытался его оттолкнуть и почувствовал, что мои руки наткнулись на что-то, отдаленно напоминающее резину, тесто или какую-то пену. Бывают страхи, от которых не убежишь. Между нами завязалась настоящая схватка. Я оттолкнул его, и он немного подался назад, хотя и не прекратил сопротивления. Я помню, что, пожалуй, даже еще больше, чем призрака, я боялся того шума, который могли бы поднять сестры. Сколько все это длилось, я точно сказать не могу — может быть, минуту, может быть, всего несколько секунд. В какой-то момент мне показалось, что я умираю, но нет: стиснув зубы, я продолжал упорно сражаться с этим демоном, духом, или как там его еще назвать. Холода я уже не чувствовал. Наоборот, мне стало жарко. Пот лил с меня так, словно меня окатили из душа. Почему сестры не подняли крика, не могу понять. Что они не спали — совершенно точно. Может быть, они просто онемели ют ужаса. И вдруг он меня ударил и тут же пропал — причем, как я это ясно почувствовал, вместе с моим членом. Неужели он его оторвал? Я лихорадочно ощупал себя. Нет, нет, он его только вмял, но так глубоко, что тот как бы ввернулся внутрь. Что вы на меня так смотрите? Я не сумасшедший и тогда тоже не был сумасшедшим. Я отчетливо понимал, что это нервы, просто определенное состояние нервов, воплотившееся в некую сущность. Эйнштейн утверждает, что масса — вид энергии. Я бы сказал, что масса — вид сжатого переживания. Неврозы материализуются и принимают конкретные вполне материальные очертания. Переживания становятся или являются телами. Вот откуда эти ваши дибуки, лешие, домовые.
На ватных ногах я вышел в коридор и кое-как доковылял до уборной, но помочиться так и не смог: было нечем — в буквальном смысле слова. Я вспомнил, что где-то читал, что такое иногда случается с мужчинами в арабских странах — особенно с теми, кто держит гарем. Как это ни странно, я оставался совершенно спокоен. Несчастья иногда выявляют в нас такую покорность судьбе, что только диву даешься.
Я вернулся в комнату, но ни одна из сестер даже не пошевелилась. Они лежали затаив дыхание, тихо-тихо. Может быть, это они заколдовали меня? Или их самих заколдовали? Я начал одеваться. Надел кальсоны, брюки, пиджак и пальто. Не зажигая света, упаковал рубашки, носки и рукописи. У сестер было достаточно времени, чтобы спросить меня, что я делаю и куда собираюсь, но они не издали ни звука. Я взял сумку и вышел. Вот вам голые факты.
— Куда же вы пошли?