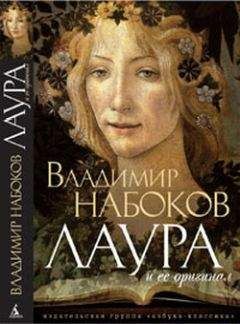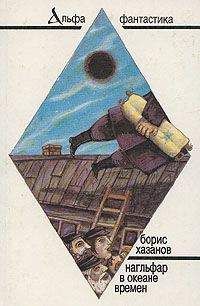"Иди, выключи,- сказала она.- Он весь выкипит".
"Не пойду. Пускай".
"Иди. Потом возвращайся ко мне".
Я вернулся и сел возле нее, но что-то мешало мне снова привлечь ее к себе. Она положила мне голову на плечо, и некоторое время мы сидели молча.
"Знаешь,-сказала Светлана медленно, глядя в пол,-я, наверное, уеду. Нас куда-нибудь сошлют, это неизбежно".
Я горячо разубеждал ее: при чем тут они? Ведь они ни в чем не виноваты.
Она возразила:
"Так было со всеми".
"А как же университет? – спросил я растерянно.- А… я?"
"Ты? – Она пожала плечами, сделав вид, что не поняла моего вопроса.-А при чем тут ты? Ты как жил, так и будешь жить"
Но именно потому, что она так истолковала мой вопрос, предательское чувство вновь как будто на миг лизнуло меня холодным языком: некий голос произнес внутри меня раздельно и четко: "Знакомство с семьей врага народа".
Но я тотчас прогнал эту мысль.
Склонив голову, так что золотистые волосы закрыли ей щеки, Светлана рисовала круги и восьмерки кончиком туфли на полу. "Пора в путь-дорогу…" – напевала она. Я посмотрел сбоку на нее.
Нет, не эти картины – закрытые наглухо вагоны, дождливая ночь и солдаты у колес – поразили мое воображение; я представил себе бесконечную, дикую и бесприютную страну, покрытую снегом степь, густые леса, тоскливые деревни. Ничто – как ни стыдно в этом признаться,- ничто не пугало и не отвращало нас в такой степени, как наша собственная страна. Огромная, и страшная, и беспомощная вместе – гигантское ископаемое, бронтозавр, с трудом приподнявшийся на передних лапах. Да она и не была нам родиной – во всей России для нас существовала только Москва. Она одна казалась нам родиной и единственным местом, пригодным для жилья. Покинуть ее? Отправиться на Север, на Урал, в Сибирь? Да пускай нас сошлют на Святую Елену -мы не будем чувствовать себя такими обездоленными.
Снова наступило молчание.
"Интересно получается,- сказала Светлана.- Раньше, бывало, телефон трещит без умолку, а сейчас! В субботу у мамы был день рождения. Никто не пришел. Кому ни позвоним – нет дома. В нашем доме чума. И когда они успели узнать, что у нас чума?"
И, подняв ко мне глаза, полные слез, точно озера, вышедшие из берегов, она улыбнулась. Тогда я взял ее за щеки и медленно, ощущая соленый вкус на губах, поцеловал сначала одно озеро, потом другое.
Она не сопротивлялась. Я целовал ее в глаза, в лоб, в щеки, не находя выхода своему чувству, как слепой, который ищет дверь и не находит и тщетно стучит клюкою по стенам; и лишь когда, запрокинув голову, с закрытыми глазами, почти непроизвольным движением она отдала мне свои губы, я догадался, что только эта нежность способна противостоять бесконечному горю жизни. Мы не смогли больше сидеть на стульях, в углу комнаты был диван, но я не представлял себе, как перейти туда, не возвратившись, хотя бы на минуту, в обыденный мир вещей и слов и не оскорбив ее целомудренное забытье. Тончайшим женским инстинктом она поняла мое колебание и… должно быть, решилась на маленькую хитрость…- а я, я тоже понял ее, но понял и то, что не должен показывать этого… Между нами возник заговор – против нас самих.
Она отстранилась от меня. "Нет. Не надо". Но я по-прежнему, как слепой, тянулся к ней. Мои пальцы обхватили ее затылок, путаясь в завитках рыжеватых волос, скользили вдоль шеи…"Нет!" Она вскочила и, не зная куда деться, пересела на диван. Я подбежал к ней и опустился на пол у ее ног.
Теперь я шел к цели настойчиво, неудержимо, как будто только что догадался о ней и с подспудным знанием, что это насилие будет мнимым. Там звали боль, там с трепетом готовились принять ее, как неизбежное, как мученический венец. Ее колени впустили меня, низ живота встретил меня, прохладный, выпуклый, нежно-упругий, и в глубине его таилось золотистое лоно. В тот миг я не был мужчиной, и не мальчиком, и не студентом, и не Леонидом X., сыном приличных родителей, а только одинокой плотью, тоскующей о материнском чреве. И я рос: из новорожденного младенца, копошащегося у ее ног, я вырос в неотвратимое. Боли не было: ее руки быстро и заботливо сделали все что нужно, – она ждала боль, искала ее, но боли все не было. Она ждала боль… но я блуждал и ошибался – пока Бог, смотревший на нас из окна, не сжалился надо мной, над нами. Я услышал сдавленный стон… В одно мгновение все было кончено. Жизнь покинула меня. В последних содроганиях я опустился на дно глубокого водоема, в мягкие водоросли. И она разделила со мной мою смерть.
Едва заметным движением бедра она дала понять, что ей тяжело. Я перевалился на край дивана, лежал спиной к ней. Через раскрытое окно к нам донеслись звуки города. На полу, возле самого моего лица, метались, наскакивая друг на друга, две мухи. Тихий, до жути отчетливый мир подъехал и стал предо мной во всем своем карикатурном убожестве.
Мне было стыдно. То, что случилось с нами, казалось мне отвратительным: спешка, трясущиеся руки… Как мы теперь взглянем друг другу в глаза?
И за всем этим – другая мысль: теперь мы связаны, скованы цепью. А вдруг на самом деле что-нибудь со Светланой стрясется и она рухнет вниз сквозь этажи – значит, и я?.. "У нас в доме чума…" – вспомнилось мне.
Как ни странно, я чувствовал сильный голод. Это отвлекло меня. Я пошевелился.
"Свет…"
Она отозвалась откуда-то издалека:
"Ну?"
"Ты спишь?" – задал я нелепый вопрос.
"Нет".
"Слушай,-сказал я.-Может, что-нибудь перекусишь?"
Мое предложение повисло в воздухе, как протянутая рука. После долгой паузы я спросил:
"Свет, ты на меня сердишься?"
Ее голос ответил: "За что?"
Она коротко вздохнула.
"Уходи".
Я не понял.
"Ну чего ты лежишь,- сказала она. – Мне нужно привести себя в порядок. Иди,- я не смотрю".
Я встал и с камнем на сердце, придерживая одежду, выбрался в коридор. Я вышел на кухню. Там я долго сидел один на один с громадным никелированным чайником.
Из чайника на меня глядел уродец с огромной опухолью вместо носа, которая надвигалась на меня, словно локомотив на одинокого пешехода.
Порывшись на полках, я нашел засохшие соседкины галеты, после чего, с грохотом разгрызая их, предался размышлениям.
Из окна кухни был виден наш двор, где каждый уголок был частицей детства. Вот пожарная лестница – я чувствовал на своих ладонях ее железные перекладины; а вон старый, испещренный выбоинами и надписями мелом кирпичный брандмауэр.
Свет падал на него косо, летний день переломился. С необычайной ясностью мозг выложил передо мной, как карты на стол, события этого дня. Их было, в сущности, только два,- странно связанные одно с другим, они в то же время противоречили друг другу: ночной стук в дверь – и мы вдвоем на диване…
Итак, свершилось – в другое время я был бы счастлив и горд: я наконец познал сближение с женщиной. Воспоминание уже не отвращало: напротив, оно разгоралось с каждым часом; закрыв глаза, я видел перед собой лунно-белую кожу Светланы, золотистый треугольник во- лос – эти подробности волновали даже больше, чем то, что последовало за ними. Я не испытал наслаждения -оно потонуло в торопливом угаре; но в следующий раз… Я поймал себя на мысли, что думаю о том, каким он будет, этот следующий раз,-и когда?.. Но кто знает, что происходит сейчас в ее сердце, там, за дверью в конце коридора, после того, как она выслала меня коротким и не терпящим возражения приказом.
Бедняжка. Как ей, должно быть, тошно и одиноко в чужой комнате, на голом, мерзком диване. Я вспомнил о вечернем звонке по телефону, о нашем длинном, бесплодном сидении на солнце у памятника Первопечатнику, о том, как платье стесняло ей грудь, как пальцы теребили сумочку, вспомнил, как она глядела на старуху, подметавшую сквер, слушала мое косноязычие, а сама думала об одном и том же, об одном и том же… И весь день колебалась и искала случая открыть мне свое горе. В сущности все ее поведение было одним непрекращающимся криком о помощи. Воспоминание о золотистых тенях на ее щеках, о ее тонкой, склоненной шее неожиданно потрясло и умилило меня; с болью, с ужасом я понял, что случилось непоправимое: ее отец был там, и, может быть, слепящий рефлектор, о котором говорил комиссар, бил ему в глаза в ту самую минуту, когда мы здесь на диване.
Мне стало холодно, я встал и быстро пошел в комнату.
Открыв дверь, я увидел ее стоящей у окна; поясок подчеркивал ее талию, прямые полные ноги казались чересчур взрослыми для ее фигурки. Руки Светланы, голые до плеч, покачивали сумочку. Она была невысокого роста, ниже меня на полторы головы.
Выждав полсекунды, не больше, она повернулась на каблуках.
"Где ты был?" – спросила она, не глядя на меня.
В эту минуту я думал о том, что ожидало нас. Она ошибалась, думая, что дело ограничится ссылкой. Нет, если за ней до сих пор не пришли, то лишь потому, что задерживается оформление бумаг. Может быть, не хватает какой-нибудь подписи; заболел чиновник. А я – моя судьба решалась сейчас, в эти минуты.